19 мая 1997. Дневник хромоножки во время её болезни
Ранее:
14 мая 1997
15 мая 1997
16 мая 1997
17 мая 1997
18 мая 1997
Галя забрала меня со двора и повезла к себе.
- Как зовут твою прабабушку? – спросила я у нее по дороге.
- Бабуля, - простодушно ответила Галя. Дорожка к ее дому вилась между палисадниками и была выложена спаренным рядком кирпичей. Коляска не вмещалась на этом настиле, но и между колес кирпичи не проходили. Галя везла коляску с наклоном: пара колес на кирпичах, пара колес на земле.
У крыльца нас встретила Галина мама.
- Мам, как нашу бабулю зовут? Спросила Галя.
- Анна Васильевна.
- Ой, правильно! – спохватилась Галя. – Она же у нас баба Нюра, как же я не сообразила?
Галина мама и Галя втащили коляску на высокое крыльцо бывшей гостиницы, откуда, в моем воображении, молоденький казачий офицерик прыгал в ожидавшие его сани. Галя ввезла меня в маленькую светелку большой квартиры. Летом в квартире оставались жить одни женщины: прабабушка, мама и Галя с младшей сестренкой. Галин отец старательствовал где-то на Севере.
Прабабушка Анна Васильевна сидела в узком промежутке между кроватью с высокими никелированными спинками и комодом на стуле с подложенной на сидение подушкой. Старушка была маленькой и худенькой, подушка торчала из-под нее с обоих краев.
Галя развернула меня лицом к старушке и сказала:
- Бабуля, я вам слушательницу привезла. Рассказывайте ей сколько захотите.
- А что рассказывать? – спросила старушка.
- Что душе угодно, - ответила Галя и, предупредив меня, чтобы я крикнула, когда мне надоест слушать, вышла.
- Чья же ты будешь? – любопытно уставилась на меня бабушка.
- Я Соня Малышева.
- Таких не знаю, - покачала она головой.
- Мы недавно в ваш двор переехали.
- А где ж ты живешь?
- Напротив вашего дома у кирпичной стены, за углом.
- Поняла, - кивнула старушка. – У Наденьки Сумской стоите.
- Нет, - возразила я. – У Сумской окна во двор, а наши на улицу.
- Поняла, поняла, - сильней закивала старушка. – Я не о нынешней Сумской говорю, а об ее двоюродной тетке, чекистке. Они как раз окнами в улицу жили.
- Если это была ее тетка, что же она на нее злится? – вырвалось у меня.
- Наследство все делит, - проговорила старушка. – Они, Сумские, из-за наследства все перессорились. Лютее врагов сделались. Наденька пистолетом их разнимала. Деда нынешней Сумской, своего дядьку, посадить грозилась. На всю жизнь перепугала! – старушка, казалось, нырнула в прошлое, как рыба в воду.
- А что Сумских здесь много было? – поинтересовалась я.
- Почитай целый двор и за кирпичной стеной тоже. Кто не от корня, и тот Сумским писался. А в революцию давай назад переписываться. Я ведь… - старушка таинственно понизила голос, - …по рождению тоже Сумская, но не признанная… Мой зачинатель Иона Маркелыч Сумской – хозяин двора, корень всему тут. А записана я была по его кучеру – Ферапонтовой Анной Васильевной. Иона Маркелыч стариком уж меня прижил. Вдовым был, трех сыновей поженил, внуков уж принял. Мама моя, Полина Игнатьевна, горничной у него служила. Из деревни ее в наймы на постоялый двор привезли. Иона Маркелыч хотел ее поломойкой в гостиницу определить, да пожалел, молоденькая больно, дет пятнадцать всего. В хозяйский дом взял, в горницах прибираться. А когда грех обозначился, за Василия, кучера своего, замуж отдал. Мама моя Василию очень нравилась. И что на сносях – не обиделся. Меня народившуюся, как родную принял. Ни разу не попрекнул, словом не обозвал и любил наравне со своими детьми. Я в родителях – отце матери – счастлива была, но мне рано шепнули, чья по-настоящему я дочь. Бывало, ребятишками по двору гоняем, двор в те времена большущий был, кони были, огородов еще не копали, это в революцию стали копать. Ребятишек набиралось множество. Тут и Сумские внуки, и ямщицкие дети, и поварские, и гостиничные. Наденька Сумская тоже с нами бегала, года на два старше меня была. У ее, бедной, ножка взялась болеть, так она прихрамывала. Ты, я гляжу, тоже ногами страдаешь? Одна или обе болят? – отвлеклась от воспоминаний старушка.
- Одна, - сказала я. – Кость сломалась, лечусь. А Наденька вылечилась?
- Лечили, - заверила старушка. – На воды возили, на грязи. Отец ее, Каллистрат Ионыч, горным инженером был, знал, где какие воды, где какие грязи. Совсем-то не вылечили, но хромоту поубавили. Ее даже потом на военные парады брали, она строю не портила. А больше на конях выступала, на пистолетах стреляла, недостатком своим не смущалась. Очень знающая была. Ее от нас в Хабаровск забрали, а оттуда в Москву. Она родителей с собою взяла, а квартиру чекистам оставила. Сумские за то на нее обозлились. Чего только вслед не плели. От этого, видно, она никогда тут не показалась, обиделась или не захотела.
Бабушка так и светилась радостью этого воспоминания. Кем была для нее Наденька? Яркой звездой молодости, недостижимой вершиной, единственным близко соприкоснувшимся с ней большим человеком?..
Анна Васильевна так была упокоена возрастом, что все земное для нее улеглось и остыло, даже морщины на лице разгладились. Теплилось в ней только памятное, давно пережитое и ставшее для нее вечным. Только оно было ее жизнью и ее интересом, только его она пережевывала с утра до вечера и ночью. Ничто другое уже в нее не войдет и не вместится, проживи она еще хоть сто, хоть двести лет. Ее человеческие часы еще тикают, но времени уже не показывают.
Я мысленно сравнила эту старушку с бабкой Сумской. Та, конечно, помоложе, но тоже вся в прошлом. Правда, оно для нее еще живое и живущее. Она полна к нему ревнивого чувства, пытается вмешаться и что-то в нем переделать. Ее лицо все в морщинах от неутихающих страстей, а выражение его злое, потому что она не может ни совладать с прошлым, ни успокоиться в нем. А у этой бабушки лицо доброе не только потому, что она ото всего отошла, но и потому, что остыв для зла, для добра она не остыла. Но вполне вероятно, что зло не играло ею и в молодые годы. У Гали, ее правнучки, в лице нет ни капельки злости…
А старушка помолчала немного, моргая выцветшими глазами, и перешла к другим образам и событиям. Память, видно, как и жизнь, не стоит на месте.
- Я про Иону Маркелыча хотела сказать, как он меня не признал, - вернулась к недосказанному бабушка. – Бегаем мы по двору… К вечеру все тут собираемся, чтобы не пропустить, как Иона Маркелыч с торбочкой на крыльцо выйдет. Тоже любил позабавиться с детьми. Крыльцо у него как церковная паперть, углом на две стороны. Сядет на порожек, а мешочек с гостинцами рядом поставит. Мы завидим мешочек – и ну носиться, ну звенеть голосочками. Хозяин смотрит на нас, тешится. Сам старый уже, борода с проседью, красная рубашка из-под поддевы навыпуск, сапоги высокие, голенища гладкие и блестят. Поглядит-поглядит и выкликать принимается по одному. Первым обязательно Стасика позовет, Матилькиного ребенка. Сыном его считал. Да где там сын, вылитый Осип Браницкий. По всем ухваткам Браницкого сын и такой же убивец, как тот. Стасик в девятьсот четвертом родился, как и Наденька, а я в девятьсот шестом. Матилька, когда понесла, то грех на Иону Мркелыча положила. Тот вину за собою признал. Тогда она запросила за Оську Браницкого ее выдать. Поляк такой был Йозеф Браницкий, все его Осипом звали. В приказчиках у хозяина служил, хитрый, как лис, еще похитрей, чем она. Сам, небось, Матильку на женитьбу подбил, чтобы через нее богатства из Ионы Маркелыча вытянуть. Хозяин их поженил и у себя поселил, не захотел со своей разлюбезной расстаться. А ей, видать, старый хрен надоел, да и вытянула она уже из него порядком. Представилась честной женой, не идет, не тешит, хозяина не балует. Он горевать, а она, лисья порода, заместо себя девчоночку беззащитную подтолкнула. А когда мама моя забрюхатела, оклеветала ее перед хозяином, сплела, что она с конюхом Василием путается. Вот он и отдал маму без благодарения и без подарков, а меня за свою не признал. А Стасика, чужого ребенка, признал, хоть и под другой фамилией. Любил его сильнее родных сыновей, сильнее внуков. Подзовет к себе и одаряет. В карманы насует, в картуз насыплет, в руки накладет. Потом поочередно внуков угощает, уже меньше дает. Остатки другим детям отдаст, кто приятнее его потешил. Меня ни разочку не выкликнет, не одарит. А я уже слышала, кем ему довожусь и гадаю себе, отчего же он меня не приметит? Однажды насмелилась и сама подошла. «Ты чья ж? – спрашивает. А я ему: «Полины Ферапонтовой дочка». Он поглядел на меня, губами пожевал и говорит: «Ну, ступай». Так ничего и не дал. Ну, я к нему больше не подходила, и без сладостей не бывала. Наденька со мною делилась. Подхромает к старому и скажет: «Деда, мне две порции дай». «За что ж тебе честь такая?» - спросит. А она: «За то, что я у тебя любимая внучка». А он: «Кто же тебе такое сказал?» - «Я сама знаю», 0тветит и дерзко так на него глядит. Ну, он не возражает, дает. Упрямство, что ли, в ее глазах видел или за хромоту жалел. Маме я не рассказывала, как Иона Маркелыч меня обидел, догадывалась, что ей не понравится. Про него она и слова ни разу не произнесла, будто его не было в ее жизни. И мне намека не подали – ни она, ни отец. Так и умерли, не сказавши, думали, что и я не знаю. О Матильде мама высказывалась, «змеей» ее называла. Помню, раз всего было, Матильда к нам прибегала, отца дома не было, маму просила: «Поди, скажи ему, скажи!» - кому и что скажи, этого я не поняла. Брошку с себя отцепила, маме совала. Разряженная ходила, как новогодняя елка. А тут брошки не пожалела, видать, припекло чем-то. Мама брошку не приняла и не пошла, куда та просила. Непрощаемую обиду на нее держала. Бог покарал бесовку. От руки хахаля своего ненаглядного, мужа беглого, смерть приняла. Только не скоро это случилось. А до той поры скольких людей она задурманила и погубила!. Сумские, считай, из-за нее перессорились и в разор впали. Иона Маркелыч, бывало, гордился, сколько всего он на свет пустил. А кого пустил – разорителей? Кроме Наденьки и ее отца, толку ни из кого не вышло, все в сорную траву перевелось.
Старушка покачала головой.
- Я как задумаюсь, кто тут жил, что делал, да что из этого вышло, то и скажу так: Иона Маркелыч, Иона Маркелыч, где твое племя? Ты вот меня не признал, а я твое семя в племя оборотила! Только корешок наш не с Сумской, а с Ферапонтовой фамилии зачинается. И отчество у меня не твое, а батюшки дорогого Василия.
- С этим отчеством вам лучше, - сказала я.
- Лучше, лучше, - покивала старушка. И, встрепенувшись, спросила: - Ты меня слушаешь?
- Слушаю очень внимательно.
- А родные мои не слушают. Старое им не интересно. Я молодою тоже не очень-то старое праздновала, а теперь гляжу - и вокруг себя вижу вечное. К Гале подружка ходит, глаза дымные-дымные, - не поймешь зло в них или добро. Вылитая Матилька. Говорю внучке: не дружи с нею, предаст. А она сердится: «Бабуля, ты устарела, теперь другая жизнь и другие люди». Никак не втолкую ей, что она через час глядит, а я через время смотрю.
«Это же Зойка Браницкая», - догадалась я и, подумав, спросила:
- Бабушка, а кто была эта Матилька?
Старушка трепыхнулась, словно гадину какую перед собой увидела, но неприязненное чувство преодолела и с охотой заговорила:
- Кто ее знает, чужеземная женщина, на вечное поселение сюда сослана. Иона Маркелыч где-то ее присмотрел и в свой двор переманил. Она у него в заведении пела и в номерах, когда особо просили. Иона Маркелыч ею гостей заманивал. Улица тогда Офицерскою называлась, и народу всякого: офицеров, купцов, проезжающих, кого только не собиралось. А Матилька, полное-то ее имя Матильда, им пела. Под цыганку рядилась. Черные волосы лентой красною уберет, бус целый ворох навесит, на плечи пеструю шаль бросит, на коленях гитара – и саднит, надрывает душу песнями всякими. На разных языках могла. Сама то ли полька, то ль молдаванка, Крым и Рым прошла. Поначалу большую выгоду Иону Маркелычу приносила, а как силу над ним взяла, все на убыток пошло. Я-то помню Иону Маркелыча уже пошатнувшимся. Гостиницу в доходный дом перевел, ресторацию закрыл и детей своих в ней поселил. В одну половину Венедикта, в другую Каллистрата, а между ними внуки от старшего сына Авенира всунулись. Сам-то Авенир на другой половине отцовского дома остался. Нынешняя Сумская, соседка ваша, - Авенирова внучка, Ионы Маркелыча правнучка. От Авенира и его детей род Сумских еще кое-как плетется. У Каллистрата Наденька-чекистка одна дочка была. Уехали они, что стало – неизвестно. Венедикт в империалистическую погиб. Дочки его замуж повыходили, фамилию потеряли. Иона Марелыч вдовый был, Матильку к себе приблизил, Стасик при нем. А мужа ее Оську Браницкого всякий раз высылал. То на пароходы устроит, то к купцу какому по торговой части прилепит, то на прииска ушлет. Тот угрем вывернется и домой. У Матильки деньги выманит и в бега пустится. Ионы Маркелыча денежки уходили. Авенир Ионыч застрелить Оську грозился. А тот в ответ: «Я имя ублюдку вашему дал. Вы мне по гроб жизни обязаны». А где там ублюдок, вылитый Оська! С Матилькой, Оськой и Стасиком Иона Маркелыч докуку себе на старости принял. Ямщицкую часть распродал – дома и конюшни. Сыновья наследства требуют, а какое наследство, когда он с обузой своей не разделается. Ну и придумал сказать, что деньги и драгоценности под ресторацией спрятаны, а где – позабыл, сами ищите!.. С тех пор между братьями вражда началась. Один одного в находке подозревает. Венедикт еще до фронта подполье перекопал. Авенир у детей под квартирами прошарил. Каллистрат, неизвестно искал или нет, но под свою половину никого не пустил. Братья чуть ли не с дубьем друг на друга пошли. Наденька подросла, пистолетом родных отгоняла. А когда уехала и квартиру чекистам оставила - и вовсе невозможно стало подсунуться. Так и не узнали правды: было в подполье что-нибудь или нет. А потом и сами Сумские перевелись.
Старушка вздохнула, скорбно посмотрела на меня и продолжала:
- После революции Матильке амнистия вышла, она со Стасиком на родину засобиралась. Осип вызвался до места сопроводить. Но до чего же подлая душа был, не дотерпел, когда выедут, прежде времени обобрал, все ценности годами накопленные выкрал и удрал. Матилька в слезы и в крик. Авенир пустился догонять вора – отцовское ведь барахлишко. С год пропадал, вернулся – и ни слова: отобрал или нет. Но видно, что не удалось. Отощал в дорогах, поизносился, лицом пострашнел. Всякого, рассказывал, насмотрелся и натерпелся, Матилькино добро перед теми страстями растоптанного плевка не стоит. Про Оську говорил, что скорее всего тот отдал Богу душу, потому что видел, как военные ребятки его уводили.
Делать нечего, Матилька тут осталась, старика догляживать и сына подымать. Иона Маркелыч в двадцать третьем году помер. Авенир хотел Матильку в квартире стеснить, но Стасик уже подрос, не позволил. К этим годам он уже бандюгой сделался, всю округу в страхе держал. А у нас во дворе тихо. Чекист да бандит – две охраны. Стасик перед Наденькою как вкопанный. Тенью за ней ходил, от вражьего глаза берег. Воры и налетчики все знали, что она под защитой самого Браницкого. Он ведь у себя тоже главарем был. А вот для себя не сохранил он ее, уехала она. Он с горя женился. Сынок у него народился. Я тоже замужем уже была, двух ребятишек имела. Тут Осип-ворюга вновь объявился. За последним к Матильке пришел. Недоучел, видно, кем его сын заделался. А может, некуда было деваться. Матилька через неохоту его приняла, любила ведь прежде. Стасик ночью отлучился, у Матильки с Оськой разговор вышел, не поладили. Он со злости ножом ее ширанул, зарезал насмерть. Жена Стасика с ребенком спали. Оська квартиру обшарил и в бега. На рассвете Стасик приходит, мать мертвая. Всех воров на ноги поднял, в два счета Оську нашли и прирезали. А мать Стасик похоронил, плакал над ней и сам недолго пожил, в молодые годы загиб.
Старушка от рассказа устала, утомленно на меня взглянула и подытожила:
- Вон, какие страсти в нашем дворе кипели. Книга целая без начала и без конца.
- Бабушка, бабушка, - позвала я, видя, как рассеивается ее внимание. – У нас еще один Сумской во дворе появился.
- Кто же такой? – встрепенулась она.
- Нашей Сумской внучатый племянник.
- Авенирово племя, - заметила себе бабушка. – Хотелось бы поглядеть, да, небось, не увижу.
В комнату вошла Галя с едой на подносе, глянула на старушку и ахнула:
- Ой, бабуля, до чего ж вы себя истомили!
- Всю дворовую жизнь обсказала, - похвалилась старушка.
- Разве можно столько времени говорить? Около трех часов болтаете, - укоризненно сказала Галя. – Давайте-ка живее кушайте и отдыхайте.
Она устроила бабушку за столом, а меня увезла на кухню пить чай.
Дома я с подозрением покосилась на гитару. Меня охватили сомнения: Ларису ли Огудалову я изображала – или целую зиму мною владела Матильда? Надо прекращать ворошить прошлое. Рано мне вокруг себя видеть вечное.
Далее:
23 мая 1997
28 мая 1997
25 июня 1997
29 июня 1997
05 июля 1997
13.10.2013г. Беляничева Галина Петровна, 675019 Благовещенск, Ам. Обл. Аэропорт
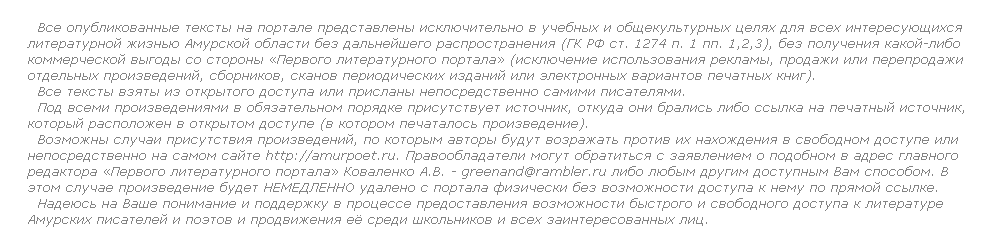
|