15 августа 1997. Дневник хромоножки во время её болезни
Ранее:
18 июня 1916
17 июля 1997
18 июля 1997
21 июля 1997
28 июля 1997
15 августа 1997 года
Я иду, опираясь на трость по солнечной стороне главной улицы. Я слегка поигрываю тростью, стараясь отвлечь внимание прохожих от моей, еще заметной, хромоты. Но она, должно быть, у всех на виду, и я только себя обманываю. Определенно я никуда не иду, прогуливаюсь от скуки, чтобы знакомых встретить, поболтать. Навстречу мне течет разреженный поток прохожих. Пожилые люди движутся в одиночку, реже парой, молодежь проходит по двое, по трое, иногда группой, дети пробегают ватажкой. Так как толпа не густая, а улица прямая, я могла бы видеть далеко впереди. Но солнце светит в лицо и слепит глаза. Поэтому Юля с Колей возникли вдруг прямо перед самым носом – и заслонили собою все: и солнце, и улицу, и людей, и мою жизнь.
Прежде всего мне бросились в глаза их руки, сцепленные в замок. В другой руке у Юли цветы. Она в коротеньких шортах и напускной блузе без рукавов. На стройных ножках туфли-лодочки на небольшом каблучке. Зойка угадала: в открытом виде Юлины ноги неотразимы. От внезапной остановки Колины волосы насыпались на лоб, и глаза из-под завесы загадочно мерцают. Коля не делает попытки откинуть волосы с глаз, так и глядит на меня, будто из-за укрытия. У обоих забалделый и слегка притомленный от переизбытка общения вид. Совершенно очевидно, что они в упоении друг от друга. Значит, все наше с ним Коля повторил с Юлей, и она ему во всем меня заменила.
Встревоженная неожиданной встречей, Юля, не отцепляя своей руки от Колиной, выдвинулась вперед, как бы закрывая его от меня. Он приручено и смущенно выглядывал из-за ее плеча, а она тараторила:
- Ой, Соня, ты пошла на поправку? Поздравляю! У нас с Колей такое загруженное лето, просто ужас! В июне гастроли с театром, в июле и августе гастроли с ансамблем. Выступали в Хабаровске, вернулись, поехали в Китай, выступали в Харбине, Цицикаре, других городах, не считая Хэйхэ. Наш с Колей дуэт пользуется успехом. Всю дорогу на бис. На каждом концерте цветы, сувениры. Завтра с ансамблем едем во Владивосток, отдохнем неделю у моря.
- Рада за вас, - как можно небрежней проговорила я, на самом деле оглушенная их успехами.
Юля радостно таращила на меня свои пронзительные глаза негритенка с глянцевыми радужками и ослепительными белками. Когда-то я любила ее за эти глаза. Они мне казались образцом искренности. Они и сейчас не обманывали. Юля по-честному меня победила. Это я неосторожно сошла с дистанции.
- Соня, за тобой уже не охотятся, ты одна ходишь? – не то с заботой, не то с издевкой спросил из-за Юлиного плеча Коля.
И тогда я заявила о своих успехах:
- Почему же одна? Если внимательно оглядеться, обязательно встретишь глаза, которые пристально за мной наблюдают.
Юля от моих слов вспугнуто дернулась, глаза забегали туда-сюда. Прежде всего, я полагаю, она испугалась за Колю, ну и за себя тоже: как бы ни втравиться со мной в какую-нибудь историю!
- Извини, Соня, мы спешим. Надо собраться в дорогу. Счастливо тебе, - впопыхах бросила Юля, уходя сама и утаскивая за собой Колю. Напоследок он оглянулся, извиняюще мерцая глазами из-за занавеси волос.
«Оставь свои извинения при себе, я в них не нуждаюсь», - не знаю понятно или нет, ответила я ему своим взглядом.
Непроизвольно я еще продолжала идти в том направлении, в котором шла, но мне никуда уже не было нужно. Тростью я больше не поигрывала и хромала, как положено, не заботясь, насколько это заметно. Помню, я задирала подбородок, не из-за высокомерия, конечно, а чтоб удержать в глазах слезы, но они все равно растекались по лицу, и я промокала их волосами.
- Хромоножка, ты плачешь? – встал передо мной Фомка. Его глаза щурились, в них гуляли насмешливые искры. - А ты подсматриваешь? – безразлично сказала я.
- Не подсматриваю, а охраняю, - поправил Фомка.
- Разве можно охранить от измены? – вздохнула я, рукой вытирая слезы.
- Знаешь, они такие счастливые, не хотелось бить в морду, - произнес Фомка.
- Что ты, Фомка, разве этим поможешь? – тихо сказала я.
- Меня Серегой зовут, - почему-то напомнил Фомка.
- А по отчеству как? – вспомнила я Сережу-подворника.
- Васильевич.
- Вот что, Сергей Васильевич, сгинь с моего пути и не попадайся мне на глаза, по крайней мере, сегодня, - я отвернулась от него, глядя туда, куда ушла влюбленная пара. Ее давно уже не было видно. Она исчезла из моих глаз и из моей жизни. Мир от этого не рухнул, но разломился на отдельные, не связанные между собой составные. Люди виделись уже не толпой, а каждый человек поодиночке. Дома не имели никакого отношения к людям, идущим мимо них. Машины катили не потоком, а каждая сама по себе. Солнце светило для себя, небо не обнимало землю, а я была осколком в этом расщепившемся, утратившем связи, мире.
Откуда-то вынырнула Фомкина рука и протянула мне мороженое. Странно, но и мороженое я восприняла как-то отдельно, вне связи с Фомкой. И в самом мороженом я не почувствовала ни вкуса, ни запаха, но съела, кажется, до конца. Снова Фомкина рука подала мне мороженое, снова я приняла его так, будто оно появилось само собой, ниоткуда. Передавая мне очередное мороженое, Фомка что-то говорил: должно быть пытался обозначить в моем сознании эту самую ниточку связи, но я не слышала и не понимала его слов. А когда Фомкина рука с мороженым перестала появляться передо мной, мир окончательно отделился от меня – или я отделилась от мира и от себя в том числе.
Дома я закрылась в комнате и легла на кровать, сжавшись в комочек. Передо мной потянулись долгие и утомительные видения: будто все поодиночке от меня уходило. Уходили за горизонт дома, машины, люди. Это происходило так медленно и продолжалось так бесконечно, что я уставала провожать взглядом каждую человеческую фигуру, каждый дом, каждую машину. Пробуждаясь, я стряхивала с себя сновидение, но оно снова обволакивало сознание – и передо мной вновь возникала картина ухода.
….Когда стемнело, меня разбудила мама, пощупала лоб – тогда все еще было в порядке, - позвала ужинать. Я отказалась. Мама заставила меня умыться, расстелить постель и лечь по-человечески. Я подчинилась всем ее распоряжениям и упала в тот же сон. Но теперь движение за горизонт сопровождалось невыносимой головной болью.
Утром я проснулась с огнем в горле и жаром в груди. Несколько дней я только болела и только лечилась, не имея сил ни думать, ни сожалеть, ни печалиться. А потом, вместе с физическим облегчением, для меня наступило облегчение душевное. Я выболела свою несчастную любовь до пустоты в сердце.
Когда мне стало получше, Фомка прорвался ко мне, вымолив у бабушки разрешение.
- Хочешь, я набью ему морду? – вдохновенно сказал он.
- Себе набей. Это ты пичкал меня мороженым. Сколько я съела?
- Пять, - сконфузился Фомка.
- Разве можно столько давать?
- Ты ела и ела.
- Я ж не в себе была.
- Я больше съедаю, и со мной ничего не бывает.
- Ты закаленный. Можно, я тебя кое о чем попрошу?
- Ради Бога! – встрепенулся Фомка.
- Позволь называть тебя Фомкой. Как Серега ты много теряешь.
Фомка замялся.
- А ты называй меня Хромоножкой, - добавила я.
- Мне хочется тебя Соней звать, - Фомка опустил голову.
Я увидела, что вокруг его головы уже нет ореола, напоминающего одуванчик. Светоносный нимб уничтожен ради зализанной прически. Как мальчишке не терпится вырасти!
- Хорошо, называй меня, как получится, - нашла я выход.
- И ты тоже. Но все же иногда говори «Сережа» - может, привыкнешь? – он просительно посмотрел на меня.
«Неужели я так же быстро расту? – с сожалением подумала я. – Ну, конечно, раз целовалась с Колей, значит, выросла. А этот негодник видел и тоже захотел побыть женихом…»
- Соня, а мне можно тебя кое о чем попросить? – помолчав, проговорил Фомка.
- Конечно, можно.
- Я не хочу больше ходить за тобой. Я хочу ходить рядом. – Фомка глядел на меня напряженным, выжидающим взглядом.
- Ходи, - ответила я, - только не навязчиво, потому что иной раз мне захочется одной побыть или с кем-то еще. Ты не должен мне мешать.
- Ладно, не буду, - с неохотой согласился он.
Так я освободилась от его неусыпной слежки.
А вечером того же дня ко мне в комнату зашел папа, сел напротив и сказал:
- Фирма покупает для меня квартиру. По договору я обязан постепенно за нее расплатиться. Дом достраивается. Где-то зимой или к весне переедем. Это недалеко отсюда, на набережной. Когда поправишься, мы сходим и посмотрим. Думаю, тебе понравится. Дом высотный, весь в лоджиях. У нас будет третий этаж, двухкомнатная квартира. Бабушку мы заберем с собой и буфет тоже. Вы с ней поделите одну комнату. Мы с мамой займем другую. Дом поставлен так, что все окна глядят на Амур. Дом новый, без легенд и преданий. Начнем жизнь с чистой страницы.
- Представляю, как мама радуется, - проговорила я.
- А ты? – спросил папа.
- Я тут привыкла.
- К чему ты привыкла? – энергично входя в комнату, сказала мама. – К низкому социальному уровню, сомнительному окружению, бездуховной и неинтеллектуальной среде?
- Зато здесь я не была одна и ущербной себя не чувствовала, - возразила я. – А твое интеллигентное окружение отвернулось от меня в первый же момент.
- Но с кем ты водилась? Это же криминальный и полукриминальный контингент! Сколько потрясений мы пережили, сколько страха за тебя набрались! – выплескивала наболевшее мама.
- Да, мама, мы были здесь чужаками. Но ты заметила, что нам уже никто не досаждает? Я научилась ладить со всеми. Чтобы тебя хотя бы не предали, - надо крепко запасть человеку в душу. А если он все равно предает, значит, перед тобою подлец и надо держаться от него подальше. Я так и поступлю с одним человеком из твоей, мама, интеллигентной среды. А двор передо мной ни в чем не виноват. Он учил меня стоять за себя и ни в коем случае не поддаваться. Я тут выздоровела, поумнела, и мне тут нравится.
- Я так понимаю, что ты не хочешь подниматься на более высокий уровень? – спросила мама.
- Я с него не сходила, мама! – защищалась я. – Я же прочла все, что ты мне наносила, и языком занималась, только на пианино не играла, и то осенью начну наверстывать.
- Значит, ты не против переезда в современную квартиру? – допытывалась мама.
- Я не знаю. Надо подумать.
- Подумай, - поднялся со стула папа. – Но квартиру мы все равно покупаем. Не считай, пожалуйста, это изменой своему двору, хоть ты его и полюбила. Это движение жизни. А в твоем возрасте перемены полезны.
- Пап, а что будет с этой квартирой? – крикнула я вслед выходящим родителям. Папа остановился, усмехнулся:
- Продам тому же Сумскому. Он пытался нахрапом нас выселить, пусть попытает счастья в законной сделке. Но ради него цену спускать я не буду.
У меня в голове застряли папины слова о полезности перемен. Я весь вечер думала о них, а ночью то ли во сне, то ли в бессоннице они сопровождали мои видения. Передо мной встала Наденька Сумская – не девочка-подросток с фотографии, показанной мне старой Сумской, а девушка-чекистка, и почему-то не в кожаных прибамбасах – тужурке и фуражке, а в красноармейской длиннополой шинели, провисшей на ее тонкой фигуре, и глубоком суконном шлеме, расстегнутом у горла. Я вижу ее в сумерках вечерних или предутренних. Она входит в ворота (тогда еще здесь были ворота) и идет по двору. Из темных глубин шлема слегка выступает острый кончик носа (девушка отличается не красотой, а силой характера). Походка ее нетороплива и слегка расслаблена, словно она в ходьбе отдыхает от тяжкого дня или ночи. В глубоком кармане шинели спрятан пистолет, но охраняет ее не он, а скользящая позади тень Станислава Браницкого. Чекистка знает об этой тени и, вероятно, полагается на ее защиту, оттого-то походка расслаблена и пистолет глубоко.
Но в двадцать седьмом году девушка пренебрегла безопасностью, которая была обеспечена ей в этом дворе и этом городе, и уехала. Пошла ли ей эта перемена на пользу? Что с нею дальше стало? Ее ожидали страшные тридцатые годы. Выжила ли она в них – или разбилась на острых камнях этого рокового десятилетия? Двору об ее дальнейшей судьбе ничего неизвестно. Но родственники что-то, должно быть, знали, потому и удержали вторую Наденьку от повторения пути предшественницы. А ведь они были похожи и лицом, и характером. Но первая всю силу отдала полету, а вторая – торможению. Может, вторая Надежда просто не успела набрать высоты, знала об этом и всю жизнь завидовала удаче предшественницы? А может, выбрала верность двору и дому, чтобы хоть что-то сохранить за родовой фамилией? Это и стало острыми камнями ее судьбы, бессмысленной и бесполезной жертвой. Прибавим сюда несложившуюся личную жизнь, засасывающее однообразие. Отсутствие впечатлений и перемен привело к тому, что она стала жить переживаниями предшествующих поколений., давно отшумевшими событиями, накладывая образы ушедших людей на ныне живущих. Потому-то и я была для нее Наденькой – когда девочкой- подростком, а когда и девушкой-чекисткой. Мама моя ей представлялась Матильдой, а потом этот образ она перенесла на Зойку.
А разве я не пережила эту зиму под впечатлением ушедших событий и образов? Допустим, я играла, а у Сумской это было начавшимся умопомрачением. Но исходный момент один: замкнутость жизни, скудость событий и впечатлений. Папа прав, мне нужны перемены, как нужны они были Наденьке и второй Надежде.
Утром, невзирая на бабушкины запреты, я побежала смотреть новый дом. Он оказался совсем такой, как представился мне из папиного рассказа, - белоснежный парус, вознесенный над городом и рекой. Внизу его обступают беспарусные суденышки: низкие деревянные дома и невысокие каменные строения, - но вверху, в поднебесье, у него нет конкурентов.
«Вот, это полет!» - сердце у меня заколотилось.
Конечно, со временем и его обживут, как самый обычный дом. Он обрастет прошлым и настоящим. А пока он – чистая страница. Здесь даже образ Ларисы Огудаловой не придет мне на ум. Все мысли и дела будут устремлены в будущее. Увы!..
Далее:
25 августа 1997
13.10.2013г. Беляничева Галина Петровна, 675019 Благовещенск, Ам. Обл. Аэропорт
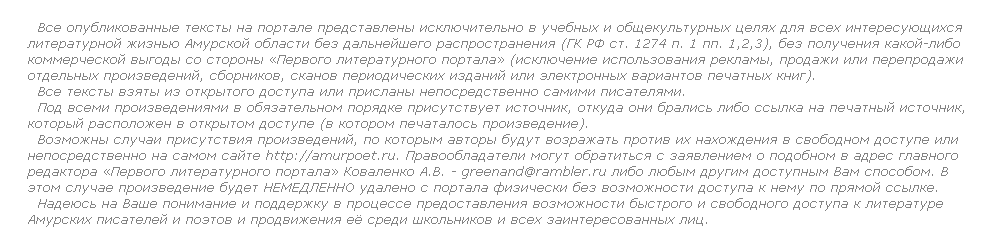
|