Одиночество без фильтра
Вы любите разбивать зеркала? Нет? Попробуйте, и вы испытаете ни с чем не сравнимое удовольствие!
Конечно, можно бить стекла, которые впускают в здания свет, расстреливать из автоматического оружия пустые бутылки или резать бензопилой листы металла, но это не то. Поверьте, превращать зеркало в совокупность его осколков – гораздо приятнее. Главное – вливать душу в то, что делаешь, и не заботиться о результате.
Я встречал только одного человека, по-настоящему умевшего бить зеркала. Это была одна из тех редких женщин, которых можно смело пускать в церковь с непокрытой головой. Когда я узнал правду о ней, ей было 16 и звали ее Глурь. Она красила ногти и губы во все оттенки черного, старалась мыться только один раз в полгода и принципиально мочилась стоя (по крайней мере, когда ее видели).
Как сейчас помню то место, где мы познакомились, - пустынный пляж на берегу Желтой бухты, куда выплескивает свои зловонные воды Каду. Свалка там была знатная. Хотя людей (в полном смысле этого слова) в окрестностях Президенты после Трех Дней практически не осталось, следов их деятельности было предостаточно. Насколько хватало глаз все побережье было покрыто густым слоем мусора. Основную массу составляли жестянки, пакеты, бутылки, бумага и презервативы, но можно было отыскать и уникальные экспонаты: например, фотографию Хилмлы Ке-Аригана, томик древнегоской поэзии или даже фрагмент сливного бочка инопланетной конструкции. В этом смысле Желтую бухту можно рассматривать как аллегорию человеческой жизни, бессмертный памятник ушедшей раньше времени цивилизации или как-нибудь еще. Например Глурь видела в ней отличное местечко для битья зеркал.
Она собирала их в городских развалинах во время своих ночных увеселительных рейдов, а во второй половине дня, хорошенько выспавшись, приносила их сюда, вооружалась кувалдой или какой-нибудь ржавой цепью и крушила, крушила, крушила.
После одного из таких ее концертов мы и повстречались. В тот миг я был едва вылупившимся юным хнортом и собирал материалы для своей работы «Роль органических полимеров в жизни человека разумного», а Глурь передвигалась вдоль кромки прибоя своей ломкой походкой, беззаботно вращая над головой обрывок железной цепи.
Казалось, она была исполнена спокойствия и гармонии, словно процесс, изоморфный восходу солнца, и ничто в ее облике не предвещало перемен. И вдруг она с диким свистом резко рванулась вперед и зашвырнула цепь далеко в океан. Так у нас на Лее наступает ночь, так на Земле должен наступить судный день, так прямая линия за долю секунды становится ломаной. Несколько мгновений девушка простояла в замысловатой позе, наблюдая за полетом цепи, а когда она упала в воду, отправилась дальше.
Отдаляясь от кучи битого стекла, она становилась все ближе ко мне, что позволяло мне осознавать подробности ее видимости. С псевдочеловеческой точки зрения Глурь была очень худой, но обладала атлетическим телосложением. Ее левая рука и столь же левая нога были заметно тоньше, нежели соответствующие конечности справа. Крупная голова была усеяна островками коротких волос непонятного цвета. Длинный прямой нос, заостренный подбородок с ямочкой, несколько отсутствующий и время от времени вспыхивающий взгляд серых, как Митрандир, глаз. Горячий радиоактивный ветер развевал полы ее оранжевого балахона без рукавов, который сверху донизу был изорван на широкие полосы с неровными краями. (Как я прочел в работах моего коллеги Тапернакса, крупнейшего специалиста по человеческой одежде, в жару такой постальтернативный аналог толы был просто незаменим и одевался через голову путем просовывания последней в центральное отверстие). В заключение человек мог бы сказать, что от Глури очень дурно пахло. Но мы, хнорты, воспринимаем запахи иначе, и лично мне ее аромат чем-то напоминал о смотровых башнях на островах. Когда под вечер они начинают вращаться, то пахнут почти так же.
- С нами Стар, - поприветствовал я девушку, когда проведенная через нас прямая стала перпендикулярна линии берега, а расстояние между нами достигло предельной для молчания величины.
Я старательно выговаривал каждую букву и даже, как и положено, сделал ударение на втором слове, но девушка, видимо, меня все-таки не поняла. Не обращая на меня ни малейшего внимания, она продолжала задумчиво передвигаться в южном направлении.
- Господь любит тебя! – попробовал я другой вариант.
Она резко повернула голову, так что векторы наших взглядов встретились, и посмотрела на меня загадочно и очень ласково. Потом громко рыгнула и, старательно прицелившись, сплюнула мне на ногу что-то густое и зеленое, как солнечный свет. Я вытащил из-за пера электронный регистратор и записал на память такую необычную форму человеческого приветствия, чтобы в дальнейшем использовать. Затем, изменив разрешение зрения, я тщательно осмотрел массу на своей ноге и пришел к выводу, что на завтрак девушка ела растение dealacrima secunda. Хороший выбор.
- Меня зовут Прохроналг, - признался я грустно.
- Глурь, - сказала Глурь.
Судя по всему, ее не удивлял мой внешний вид и большой пакет с пластиковыми бутылками, тарелками, солнцезащитными очками и презервативами, который я держал в левой нижней руке. Наверное, она видела во мне такого же мутанта, как и она сама. В руинах Президенты действительно кого только не было: многоголовые пористые хиплы, слизь, исчезающие геши, которые отличались от других мутантов тем, что громко тукали по ночам и считались чем-то вроде трехполого аналога «старших». Но больше всего здесь было племен падальщиков-снуров, существ с огромным ротовым отверстием в нижней части длинного сегментированного тела. Чем-то они напоминали членистоногих, но в то же время все в их облике говорило о том, что они произошли от людей, с которыми и по сей день часто вступали в брак, хотя у таких союзов не могло быть потомства. С одним я даже был знаком, - он водил за собой на веревке последнего земного Императора и заставлял его перед толпой за умеренную плату цитировать пьесы Доркейна.
- Куда ты движешься, Глурь? – спросил я.
Девушка посмотрела мимо меня, как на нечто глубоко неполноценное и чуждое, и, ничего не ответив, пошла в сторону дамбы, за которой виднелись развалины города.
Я пошел за ней.
Прежде чем отправиться в город, мы несколько раз поднялись и спустились по широкой гранитной лестнице, которая вела на вершину дамбы. Достигнув самой верхней ступеньки, Глурь оборачивалась, смотрела куда-то в морскую даль, снова спускалась вниз, поднимала с земли окурок, выкуривала его, сидя на ступеньках, а потом снова начинала восхождение, чтобы повторить все заново.
Словом, у меня было время для мыслительной деятельности даже в обычном режиме. Вначале я обдумал ее поведение и выделил несколько наиболее удачных вариантов его объяснения. Возможно, оно типично для данной особи и представляет собой либо разновидность отдыха, либо физическое упражнение, либо духовную или даже мистическую практику. Не исключено, что особь кого-то или чего-то ждет, мечется, пытаясь принять какое-то решение, или хочет с помощью наркотического вещества погасить возбуждение нервной системы. Причем, причины последнего могли находиться не только где угодно, но и существовать только в воображении особи, то есть в самой нервной системе.
Затем я рассмотрел собственные реакции на происходящее. Зачем я пошел за этой человеческой особью? Помочь мне в моих исследованиях взаимосвязи полимеров и человеческой цивилизации она не могла. Стандартная для людей половая мотивация отпадала, поскольку, изведав скотоложство, я не нашел его приятным. Скуки я не ощущал, голода тоже, значит, либо я, либо особь не вполне соответствуют моему восприятию. А может быть, границы моих исследований на самом деле шире, чем я предполагал?..
Мышление вновь доказало мне непознаваемость реальности, и я испил до дна восторг этого ощущения. Оставалось только погадать на Грацмах, но здесь не было ни потолка, по которому они могли бы ползать, ни их самих…
Взобравшись по лестнице в седьмой или восьмой раз, Глурь, как ни странно, не обернулась, а почему-то бегом спустилась по восточному пологому склону дамбы.
И мы вошли в город.
* * *
Президента, которая некогда была крупнейшим портовым городом Фоменорима и столицей всего Анлоудорского края, стала похожа на многокилометровый железобетонный саркофаг. Этот огромный город, в последние годы теократии Стара превратившийся в центр культурной и деловой жизни северо-западного Мондастара и являвшийся последним островком земного свободомыслия, больше всего пострадал и от Реформ Уну Лоя, и от последовавших за ними страшных Трех Дней. Его восточная часть, где были построены экспериментальная энергостанция и местный Центр Хемидоведения, была полностью разрушена чудовищным взрывом. Ходили слухи, что в этой радиоактивной пустыне растет один из городов «старших». А западные портовые районы, тянувшиеся вдоль океанского побережья на добрых 50 км, превратились в грандиозный мертвый сад из тысяч опустевших зданий. Однако они не долго ждали своих новых жильцов: здесь нашла убежище юная цивилизация мутантов, которые оказались более жизнеспособными в новых условиях и вскоре вытеснили из руин оставшихся людей.
Мы шли по гулким недружелюбным улицам, обходя лужи грязной воды и желеобразной живой массы и лежавшие повсюду человеческие скелеты, мимо полуразрушенных гигантов из бетона, стекла и вездесущего пластика, мимо застывших на дорогах автомобилей, которые, казалось, просто ждали своих владельцев, ненадолго отлучившихся за пачкой сигарет.
Однако мертвенное молчание этих улиц было обманчивым. Несколько раз рядом с нами рикошетили об асфальт шальные пули и сыпались стреляные гильзы от ДК-64, - где-то на верхних этажах шла война между кланами. Но Глурь это, похоже, мало заботило. Она даже не вздрогнула, когда метрах в шести перед нами на дорогу упал многорукий мутант с заточенным ломом в очень длинной конвульсивно сокращающейся шее. Его темно-фиолетовое лицо было уничтожено разрывной пулей, а воздух вырывался из груди прямо сквозь рваные раны вместе с хрипом и пенящейся кровью.
«Забавный скелет будет», - подумал я, насчитав у существа одиннадцать членистых конечностей и две головы.
Петляя по запутанным улицам, больше напоминающим узкие ущелья между колоссальными рукотворными скалами, мы миновали зону боевых действий и очутились на огромной площади. Когда-то она была усеяна островками парков и прудов, о которых теперь напоминали только торчащие из потрескавшейся земли голые стволы, покрытые разноцветными светящимися лишайниками. Здесь, пожалуй, было красиво, особенно ночью.
Я узнал площадь Йонкинса – бывший деловой центр Президенты. По ее периметру располагались старинные кирпичные здания, большинство из которых были построены еще при орских промышленниках, о чем свидетельствовала тяготеющая к округлостям, аркам и колоннадам архитектура и надписи на иантийском и шаурматском языках. Когда-то здесь разорялись банкиры и играли на биржевых котировках ловкие дельцы, чтобы прокутить свое состояние в одном из сверкающих хрусталем и золотом фешенебельных клубов и ресторанов улицы Декар. А теперь в подвалах и сейфах этих офисов, банков и казино гнили миллиарды никому не нужных ларов, ульдов и артов. Новое время принесло новые ценности, главной из которых стала жизнь.
Кроме радиоактивных скверов, на площади оказалось две достопримечательности: в центре возвышались мраморная статуя самого Йонкинса и исполинский храм Линга. То ли по случайной иронии, то ли по глубокомысленному замыслу архитектора, стоявший на высоком ступенчатом пьедестале древний правитель Сардуиноста приветливо улыбался из-под широкополой шляпы и гостеприимно указывал рукой на вход в храм, похожий на многометровую разверстую пасть какого-то чудовища с высоченной позолоченной лестницей вместо языка. Храм возвышался над городом касов на 800, а торчавшие по бокам от его купола конические мегалиты уходили в небо на добрый фатак. Казалось, он нависал над всем миром, словно парящий дракон или один из древних Столбов, и в то же время, как водоворот в ментальном океане, притягивал к себе все внимание, - на него просто нельзя было не смотреть, настолько он был огромен.
Немудрено, что туда мы и направились.
Ночь уже шла нам навстречу, а встреча с ней в пустынных руинах – не самое приятное свидание в жизни.
А внутри день и ночь сменялись с бешеной скоростью, ни на миг не уступая друг другу. Каждую секунду мощные прожектора заполняли гигантское помещение яркими вспышками всех цветов радуги. На большом голографическом экране, висевшем под куполом, в безумном ритме мелькали какие-то технологические пейзажи, космические битвы, сцены скоростных погонь и изощренного насилия, мгновенно переходящие в сцены столь же изощренного секса, которые как раз перед наступлением всеобщего оргазма неожиданно прерывались рекламой чего-нибудь вроде чудо-носков для улучшения пищеварения или пелаймовой пасты для «голубых». Эти картины не успевали задержаться в человеческом сознании, но этого и не требовалось, - попадая напрямую в подсознание, они отлично сближали и заводили толпу.
На первый взгляд могло показаться, что в молельном зале собрался весь город. В храме было тысячи три мутантов, большинство из которых выглядело вполне человекообразно. Некоторые, поглядывая на экран, мирно ужинали в многочисленных забегаловках и открытых кафе, разбросанных по всему залу, некоторые общались, перекрикивая гремящую музыку, некоторые забывались под нее в диком танце. На всем пространстве молельни звучала эта смесь неистовых ритмов и полифония разнообразнейших звуков: от низкого металлического стука и скрежета до гудения автомобильных сирен, детского смеха и женского визга. Параллельно с этой композицией, и без того рассчитанной на максимальное возбуждение нервов, в эфире звучали протяжные свистки омега-волн, разработанного найпскими проповедниками сильного электромагнитного наркотика.
Были здесь и другие, менее духовные развлечения. Кое-где, словно острова в море толпы, возвышались высокие огороженные помосты, на которых весьма профессиональные для руин артисты разыгрывали эротические сцены, способные удовлетворить любого, даже самого требовательного зрителя. Для моего коллеги Стелгоркагнарэ, изучающего формы человеческой сексуальности, это место было бы бесценной находкой. Свойственные многим людям гомосексуализм и садомазохизм выглядели привычно и бесцветно на фоне извращений, порожденных мутировавшей психикой жителей руин. Многие зрители не выдерживали охватившего их возбуждения и кидались на металлические прутья заграждений, по которым был пропущен электрический ток, пополняя груды валявшихся на полу бессознательных и уже неживых тел. Другие, более воздержанные, ограничивались тем, что вместе с соседями воплощали увиденное в жизнь где-нибудь неподалеку.
Глурь по какому-то ей одной известному маршруту двигалась сквозь толпу, и через несколько минут мы достигли довольно тихого заведения, расположенного касах в тридцати от центрального алтаря, на котором собралась группа каких-то сектантов. Молодые люди с выражением полнейшего катарсиса на изможденных лицах срывали с себя и без того скудную одежду, бросали ее тянувшимся снизу рукам и одаривали друг друга маленькими серебряными пластинками.
Мы вошли в просторный шар из зеленоватого стекла, в котором расположилось необычное кафе. Повсюду стояли маленькие деревянные столики, выполненные в виде неправильных многоугольников, и витые белые стулья. Свет здесь не мигал, как снаружи, а мягко мерцал, да и публика собралась явно весьма интеллектуальная: в основном пожилые снуры, облаченные в оранжевые толоры проповедники смерти, проститутки в броских металлопластиковых нарядах и женщины с вытатуированными на предплечьях синими лилиями (что свидетельствовало об их равнодушии к мужскому полу). Звучали пьяные разговоры о Третьем Возвращении, стихи и философские сентенции об алкоголе, наркотиках и прошлом.
Видимо, Глурь здесь знали: когда мы вошли, несколько молодых женщин встретили ее приветствиями и улыбками. Однако она, как и прежде, хранила молчание.
- Ну ты и парня себе откопала! – воскликнула высокая девушка в серебристом платье и с тремя разноцветными глазами. – Дай подержать!
- На какой свалке ты нашла такого урода? – поинтересовалась лысая геш с двумя длинными зелеными прядями на плечах.
- Глурь, ты теперь, наверное, жалеешь, что у тебя не четыре груди, как у Джой?
- А как же Ви? – загадочно спросила похожая на растянутую креветку снурка с бриллиантовыми браслетами на обоих хвостах.
- Закройся, Лаш, - бросила Глурь, усевшись за 15-тиугольный столик. – Лучше принеси файны.
Снурка медленно встала и, вальяжно покачивая щеками, направилась к серповидной стойке, за которой подремывал небритый майрик, явно страдающий от избыточного веса.
Глурь, крутнувшись на стуле, критически оглядела компанию, потом расстелила на столике перед собой салфетку и положила на нее голову.
Однако спокойно отдохнуть нам не дали. Вскоре за наш столик подсел сухой, как скелет, северянин с глазами осторожного шизофреника в желтой одежде. Видимо, он был Гуам, потому что сразу предложил мне совместно покончить с жизнью. Я сделал вид, что не владею найпским, и тогда он обратился к девушке:
- Дочь моя и сестра! Взгляни на это беснующееся море греха вокруг нас. Давай вместе уйдем отсюда и отправимся в страну вечного блаженства! Жизнь – это обман, понимаешь? Кошмарный сон и не более. Все, что тебе нужно, - это смерть! Смерть – это свобода, это начало настоящей жизни, полной жизни!
В это время вернулась Лаш с тремя стаканами, наполненными какой-то грязно-белой жидкостью.
- Гейст, дружок, жизнь – это величайший дар Линга, - сказала она, расставляя стаканы на столе. – Грешно отвергать его даже в мыслях!
- Вся человеческая культура, включая философию и религию, есть преодоление природы, избавление человека от страха, от греха, от чувства вины, - отвечал проповедник. – И в этом смысле самое великое, ибо самое противоестественное, самое грандиозное преодоление природных инстинктов, а следовательно – высочайшее достижение культуры, - это самоубийство. Самоубийство индивида, нации, а потом и всего человечества!
- Наверное, я совсем некультурная, но мне это не понятно, - сказала Лаш. – Я люблю жизнь, хотя порой приходится несладко во всем этом дерьме. Когда я была молода, то чуть было не бросилась с крыши из-за одного мерзавца. Он был настоящий человек, не то что я, симпатичный, высокий такой, служил в Ганнеамаре. А может, и врал… - добавила она задумчиво. – Но у меня не хватило духу прыгнуть, я всегда была такая трусиха.
- Да, страх – это самое большое препятствие на пути к блаженству смерти, - радостно поддержал ее Гуам. – Мы всегда живем в замкнутом пространстве страха. Пока тебе есть, что терять, он парализует твое истинное «я». Но со временем ты понимаешь, что нужно сказать «нет» всем внешним обстоятельствам, - таково человеческое достоинство, возведенное в абсолют. И помочь сделать это тем, кто рядом с тобой.
«Страх ведет тебя к смерти, и он же мешает тебе к ней прийти», - с удовольствием подумал я, но ничего не сказал.
- Пойдем со мной в мою Этергеру! – проникновенно закончил Гейст, взяв Лаш за клешню. Глаза его лихорадочно горели, и снурка смотрела в них, как загипнотизированная.
Глурь устало подняла голову со стола, с наслаждением облизала свою ладонь, потом закрыла ей рот проповедника и стала медленно вращать рукой, будто пытаясь размазать его лицо. Он не сопротивлялся столь вопиющему надругательству над своей физиономией, смирившись с необходимостью этого зла, и тогда Глурь с отвращением оттолкнула его, так что несчастный Гуам перевернулся вверх ногами вместе со стулом.
Все кафе разразилось хохотом, увидев смерть лежащей на полу в такой остроумной позе, а северянин, подобрав полы своей толоры, бросился прочь из стеклянного шара.
- Молодец, Глурь, - иначе он не отвяжется, - одобрительно произнесла одноногая пьяная проститутка с собачьей головой на длинной изящной шее.
Беловатая жидкость под названием «файна» была очень холодной и крепкой. Видимо, она была приготовлена из кислого лайсового молока и какао и содержала немало этилового спирта и чего-то еще. Но, если честно, ничего определенного об этой смеси я сказать не в силах, кроме того, что Глури она нравилась.
Мы выпили, потом перекусили какой-то упругой рыбой. Заиграла старинная музыка, и женские пары стали медленно кружиться по шару, словно диковинные рыбы в аквариуме. Некоторые из них часто натыкались на чужие столики и потом застенчиво извинялись перед пострадавшими. Неподалеку от нас какой-то сиамский близнец, перебивая пьяную песню делившего с ним тело братца, восторженно декламировал своей хорошенькой, полностью человекообразной соседке поэму «Дево Ханга». Когда он дошел до строчки, гласившей: «И не внемли его словам», девушка закатила глаза от эстетического восторга, и я тоже почему-то испытал блаженство. Мне здесь нравилось, почти как в резервуаре.
Глурь, облокотившись о столик острыми локтями, внимательно рассматривала содержимое своего стакана. Казалось, она, словно Пройс, существует в четвертом пространственном измерении и целиком поглощена осознанием своей перпендикулярности вселенной смеха и слез. Капля токсичной воды, стекающая по треснувшему стеклу одного из вымерших домов, - она ни для кого не могла стать ни смертельным ядом, ни живительной влагой. С одной стороны она выглядела, как человек, а с другой – была чем-то совершенно новым. Прохроналгу-Камэсу из-за Хью она напоминала то загадочное нечто, которое вечно скрывается в тугом яйце хлона, и в то же время – ту слепую всепобеждающую страсть и невыносимую боль, через которую это нечто гибнет в живое существо.
В отличие от Глури Лаш была блаженна и полна, словно упругий розовый сосок, питавший Пророка. Она была готова к спариванию, и круглые синие нули ее глаз, покачивающиеся на блестящих от слизи стебельках, смотрели на меня мутно и вызывающе.
Она интересовалась числовой аналитикой, в которой некоторые хнортские ученые достигли иллюзии дна, и даже хотела преподавать ее, когда жила в Нагалихе, поэтому ей было несложно найти общий язык с моей адаптационной оболочкой. Поругав для приличия Три Дня, найпов вообще и их науку в частности, Лаш сказала, что с удовольствием прочла мои труды по моделированию нейтринного пространства, которые я в глаза не видел, и униженно попросила помочь ей решить пару задач на деление в ее раковине, которая была совсем рядом.
Однако мне не хотелось покидать резервуар и терять из виду Глурь, и поэтому я углубился в доказательство теоремы Кнасримаора, которая, как известно, так и не была доказана. Лаш слушала меня с неподдельным (или очень качественно подделанным) интересом, а ее тонкая нога в черном ажурном носке, одетом прямо на белесую чешуйчатую кожу, увлеченно массировала ножку моего стула. Казалось, что какая-то трехголовая блестящая змея, заблудившаяся в лежавшем на полу женском чулке, пытается вскарабкаться на дерево.
Допив третий стакан файны, Глурь неожиданно поднялась со стула и молча пошла к выходу. Наше путешествие продолжалось...
* * *
В молельном зале творилось что-то невообразимое. Сполохи светомузыки освещали возвышавшуюся на алтаре груду трупов, из-за которой по толпе строчил ручной пулемет. Пьяные мутанты, словно обезумевшие хойсосы во время сливов, метались по всему гигантскому помещению, натыкались друг на друга и падали скошенные слепыми очередями. Гремевшая в зале музыка полностью поглощала звуки выстрелов и вопли умирающих, так что создавалось впечатление, что все это происходит в каком-то немом кино.
Внезапно обстрел прекратился, и на вершину холма из мертвых тел поднялся тщедушный человек с небольшим пулеметом системы «Терн» в руках. Он едва мог держать свое оружие, так он был слаб.
Оставшиеся в живых мутанты кинулись к выходу. Раненые пытались ползти, но их быстро превратили в кровавое месиво ноги бегущих сзади.
Добивая еще шевелившихся мутантов короткими выстрелами в голову, убийца спустился вниз и воздел вверх покрытые кровью руки. Он хохотал. Несмотря на искаженное безумной гримасой лицо, я узнал знакомого нам северянина. Он не спешил покинуть святое место, явно наслаждаясь своей божественной миссией.
Впрочем, ему бы и не дали. Из северного входа выбежала группа крупных мутантов в широких синих плащах, бронежилетах и круглых шлемах из черного пластика. В руках у них были автоматические винтовки и пистолеты. Один из них резко упал на одно колено, вскинув на плечо длинную винтовку с инфракрасно-оптическим прицелом, прицелился, и желтый проповедник рухнул среди собственных жертв. Его замысел наконец-то осуществился.
Как и прежде, на Глурь происходящее не производило никакого впечатления. Мне с трудом удавалось подавить извержение разнообразных противоречивых эмоций: страх, восхищение, сострадание, отвращение… Я так нуждался в том, чтобы проникнуть в прошлое каждого из этих мертвых людей, в том числе и самого убийцы, прочувствовать до хвоста их последний миг, уход в простор, и потом во всех подробностях воссоздать эту сцену в воображении братьев…
А ей было все равно. Переступая через мертвецов, Глурь быстрым шагом шла к восточному выходу.
Мы покинули молельный зал и вышли в широкий ярко освещенный коридор. Этот туннель огибал весь гигантский купол храма, уводя к его вершине. В прошлом здесь были расположены судебные инстанции, исповедальни, жилища священников и кельи храмовых проституток. А теперь это была просто улица: дома, бары, лавки и магазины, контрольные посты. Только жрицы святого Ренна по-прежнему предлагали свой неизменный товар.
Под расписанным фресками сводом проносились автомобили и уродливые полубайки, куда-то спешили поздние пешеходы. Около входа в ночной клуб, когда-то служивший священникам столовой, подыгрывая себе на четырехструнной церилле, слепой юноша с когтистыми птичьими пальцами и огромной яйцевидной опухолью на лбу напевал песню времен колонизации материка. Прохожие изредка бросали ему монеты или красные куски марнового хлеба, которые маленькой кучкой лежали у его ног. Голос у него был хриплый, будто с трещиной, но в сочетании с удивительно приятной мелодией звучал гармонией полной безысходности.
…В оврагах цветы – не для нас.
На высоты ведет нас наш путь,
Завещанный Лингом.
Долина Си позади, впереди – перевал Унтриму.
Глурь остановилась около юноши, задумчиво слушая старинный напев и перебирая в воздухе невидимые струны, и я впервые увидел, как она улыбается. Ее лицо будто прорезал длинный горизонтальный знак интеграла, а в серых глазах застыло выражение какого-то всепоглощающего абсолютного счастья.
Когда певец в последний раз вывел свое тоскливое «тайн Си эмириан, та ла-гра Унтриму», на ресницах девушки появились крохотные бриллианты слез. Она подошла к слепцу вплотную и, обняв его за шею, крепко прижалась губами к его губам. Певец вначале немного удивился такой необычной плате за свой труд, но потом, обхватив Глурь за талию, принял активнейшее участие в процессе.
Их поцелуй все длился и длился, и я уже начал думать, что сейчас они достигнут полного единения, но тут Глурь резко вырвалась из объятий певца и отправилась дальше, пританцовывая и размахивая руками.
Я никогда не видел человека (а на Земле я наполнился ими до мембраны), который двигался бы, как Глурь. Когда она шла своей неровной вихляющей походкой, казалось, что она все время вздрагивает. Каждая из ее конечностей двигалась независимо от других по своей ломаной траектории, и невозможно было угадать, в какой точке она окажется в следующий момент. Ее жесты были порывистыми, энергичными и почти всегда непредсказуемыми.
Мне снова захотелось спросить ее: «Куда ты движешься, Глурь?» Но, понимая, что она мне не ответит, я продолжал послушно следовать за ней по пятам, чтобы найти ответ экспериментальным путем.
Касов 500 мы преодолели без происшествий. Глурь купила в маленькой лавочке тюбик какого-то питательного вещества, высосала его на ходу, а остатками намазала руки. Затем минут пять мы просидели под стилизованным деревом из пластика на пустой детской площадке, где моя попутчица долго пересыпала пальцами гравий. Когда это занятие ей наскучило, она подобрала с земли какую-то металлическую палку (то ли лом, то ли обрезок арматуры) и направилась к большой призывно мигающей витрине.
В этот магазин постоянно заходили покупатели, несмотря на столь поздний час, и вскоре мне стала ясна причина такой популярности. На полупрозрачных полках были расставлены ценники с названиями всевозможных наркотических средств. Шире всего были представлены различные фракции танакана: гайс, фтора, ликой; была здесь и дешевая «шрапнель», голубоватый порошок из корня килпы, сигареты с джерсой и фенатрой, ампулы таркозеина и множество других обезболивающих лекарств. Для избранных, то есть для тех, кто мог отвалить сотню тысяч «кредитного эквивалента» форменбарского банка за один укол, были в продаже наркотики земного производства, ганнеамарский кагр (человек мог принять его только один раз в жизни; даже мутанты не выдерживали блаженства, которое он дарил) и даже редчайшая ганевия, желтая жидкость, приготовляемая из паров уахигольских озер и вызывавшая у людей иллюзию множественности их «я».
Однако Глурь все эти изыски не заинтересовали. Приблизившись к блестящей витрине с самым воинственным видом, она наотмашь ударила по стеклу арматурой, так что ей под ноги обрушился сверкающий водопад бьющихся осколков.
Сначала я подумал, что она, осуждая одурманивающих себя соплеменников, хочет учинить здесь погром, но ошибся. Разбив еще пару стекол, Глурь вошла внутрь, переступив через неровный острый край, взяла с полки пачку сигарет с фенатрой «Голубая роза», положила на ее место деньги и бегом покинула место преступления.
Я, Прохроналг-Камэс, никогда еще не бегал с такой скоростью. За спиной жутко завизжала сирена. Обернувшись, я увидел, что за нами несется заостренная, как клюв хищной птицы, машина храмовой охраны, и чуть не упал, сбив с ног бородатое геш. Хилое тело со стуком налетело на ребро бампера «красной стрелы», она резко затормозила, и по улице полыхнуло три автоматных очереди.
Глурь не задело, но вокруг нас начали падать прохожие. Бросившийся в переулок подросток с тремя руками несколько раз перекувыркнулся в воздухе и растянулся на бетоне с простреленным затылком. У противоположной стены билась в конвульсиях молодая женщина в высоких блестящих сапогах и трусиках из серебряных цепочек. Ее длинные красные волосы рассыпались по дороге, а вылезшие из орбит глаза с ужасом и недоумением уставились на громадную рану на животе, - девушка впервые видела свои внутренности.
Мы побежали еще быстрее. «Красная стрела» снова взревела, раздался громкий хлопок, и мой нижний правый локоть пронзила адская боль. Однако спасибо эллю я был жив и по-прежнему бежал за Глурью, Окучиватель ее укуси! Меня еще раз резануло холодом по плечу, и нервная система сама перешла в превосходящий режим. Тело, словно личинка, легко рванулось вперед, не обращая внимания на падающих прохожих и жар в ранах.
Я догнал девушку, схватил ее за руку и бросился в узкий проход, ответвляющийся вправо от главного туннеля. Сбитые с ног таким крутым виражом мы покатились по бетону. Лицо обожгла каменная крошка, застонали, срикошетив, пули. «Стрела» не могла пройти в переулок, но мы не стали дожидаться пешего преследования (сцена в молельне еще была свежа в моей памяти) и побежали дальше по темному коридору, уводившему все глубже под землю, в запутанную сеть узких кривых улочек и переходов.
Через несколько минут я почувствовал, что начинаю задыхаться. А Глурь как ни в чем не бывало продолжала нестись, словно гибнущий айр, который в падении хочет испить всю радость последнего полета. Опасность уже была позади, и я подумал, что ей просто нравится бегать. Погоня доставляла ей видимое удовольствие.
Наконец, мы вылетели на довольно широкую тускло освещенную улицу правильного трапециевидного сечения, и девушка остановилась. Своей танцующей походкой, столь контрастировавшей с той безумной гонкой, которую она только что устроила, Глурь подошла к ровной стене, провела по ней коленом и уселась, прислонившись спиной к двери чьего-то жилища.
Я еле-еле доковылял до нее и сполз вниз по стенке неподалеку. Взбесившиеся ритмы организма вскоре удалось успокоить, и оранжевые и черные круги исчезли с экрана зрения. Царапину на плече зализать тоже было несложно, кровь уже остановилась, а вот локтевой сустав, мой прекрасный локтевой сустав, к которому я уже так привык, был полностью раздроблен.
«Рука вряд ли теперь когда-нибудь будет сгибаться», - подумал я обреченно, и перья у меня на голове встали дыбом, а во рту появилась горечь ярости. «Маура!» Я посмотрел на девушку, которая с выражением полнейшего удовлетворения на лице ковырялась длинным ногтем в черно-желтых зубах, и на миг мне захотелось завязать узлом эту симметричную вонючую инопланетянку. Ощущение фильтрующей мембраны куда-то испарилось, и, вдохнув запах ее разгоряченного погоней молодого упругого тела, я, как зачарованный, провел взглядом по худым голым ногам, покрытым засохшей грязью, блестящим и скользким от пота бедрам и плечам. Я внезапно понял, что очень голоден, просто нестерпимо. «Я съем ее живьем, очень маленькими кусочками, начав с ног», - шептала мне жажда мести.
Щель моего рта становилась все шире, а здоровые руки уже потянулись к пище, но вдруг ко мне пришло осознание того, что я сам причинил себе эту боль. Если бы я не увязался за ней, подстрекаемый своим съеденным любопытством, то ничего бы этого не было, и я бы сейчас ел на станции консервированных ромолов и спокойно писал свою передвигающую.
- Хетра тебе в глотку! – выругался я, опуская дрожащие руки.
Как ни странно, Глурь обратила внимание на этот манифест страдания и досады и одарила меня веселым и понимающим взглядом. Она широко улыбнулась своей счастливой интегральной улыбкой и спросила:
- Больно, да?
Простота вопроса, в котором читались сострадание, ирония и готовность к контакту, обезоружила меня. Мысли о вкусе человеческого мяса исчезли, и я вновь ощутил свою мембрану.
- Угу, - ответил я как можно более сердито, подумав, что совесть, в сущности, – заболевание еще более неизлечимое, чем жизнь.
Потом я перевел недовольный взор на обрезок арматуры, который Глурь по-прежнему держала в руках. Девушка отвернулась и прижала лом к груди, крепко зажав его между ног, будто испугавшись, что я могу его у нее отнять.
* * *
Судя по всему, Глурь очень хорошо знала эти подземелья. Мне даже пришло в голову, что она жила тут, когда была личинкой, или как там это называется у людей, так уверенно и непринужденно она петляла по улочкам подземного храма.
Охраны здесь, к счастью, не было, а прохожие попадались очень редко и в основном были бедно одеты. Стены покрывали не фрески, изображающие сцены из жизни Стара и его учеников, а грязные, откровенно порнографические сюжеты, изредка, правда, прерываемые нецензурными оскорблениями и признаниями в любви.
Некоторые из них я занес в свой регистратор, еще раз поражаясь дикости человеческой культуры и богатству найпской лексики.
Мы шли молча. Я никогда в жизни так долго не молчал. В отличие от большинства людей, которых я знал до этого, Глурь, похоже, просто не нуждалась в общении или осуществляла его в каких-то несловесных формах.
И все-таки я решил завязать разговор:
- Глурь, ты где-нибудь училась?
- Да, - ответила Глурь, снова восторженно улыбнувшись.
- А чему?
- Многому. – Ее краткости могли позавидовать даже плуски. Видимо, ей не хотелось говорить о прошлом.
Я выдержал паузу и попробовал зайти с другой стороны:
- Говорят, Урашна закупил у Ганнеамара «серебряный туман», чтобы чистить руины. Может быть, скоро здесь все будет по-другому, начнется новая жизнь. – Для большего эффекта я мечтательно пошевелил перьями.
- Она уже началась без всякого тумана, - холодно ответила Глурь. – А Урашне… (далее последовала непереводимая тирада, из которой я понял только то, что с человеческой физиологией Глурь была знакома очень хорошо). Скоро он будет Форменбар чистить, поверь мне на слово, зеленый.
Такой откровенной лести я от нее не ждал, и поэтому нечаянно покрылся фиолетовыми пятнами.
Я понимал, что жители этих руин могли испытывать к правителю Ораты только ненависть. Конро был последним Уапри рухнувшей империи и поэтому олицетворял прошлое, тот режим, который породил эту больную цивилизацию. Он не был сильной личностью, но имел хороших советников и мощнейшую на планете армию, созданную усилиями синфеммона Ланшара Куиска и его собственной жены Гейлхаллы, которая, как поговаривали, вдохновляла Куиска на его ратные подвиги.
Последней надеждой демократов была северная династия Йонсов, но их «Освободительный Фронт Фоменорима» был шутя разбит нанятыми Куиском энгримскими кортариями, чьи бронетанковые тумены и хошты давили орды беженцев, кочующих на восток в надежде спастись от наступающих руин. Потерпев полное поражение в Анлоудорской войне (точнее бойне, во время которой профессиональные и прекрасно вооруженные здоровяки энги жгли и крушили голодных северян, почти поголовно страдавших лучевым синдромом), последние носители земной культуры оказались зажатыми между слепой деспотией Урашны Конро и безумной яростью мутантов. Помощи им ждать было неоткуда: ослабленная внутренними войнами Земная Конфедерация была разгромлена вторжением Старгелонов, отбросившим ее народы на десятки лет назад по временной оси.
Однако, глядя на карту Менлайна, я не мог понять, кто здесь играет в историю. Три Дня раздробили монолит Мондастарской империи на несколько разнородных частей, которые благодаря разрухе и охватившему огромные территории радиоактивному заражению существовали совершенно независимо друг от друга. Прошлое было разрушено, но будущее упорно не хотело наступать; люди привыкли жить в условиях постоянной катастрофы.
Наверное, поэтому мне и нравилось человечество: оно было похоже на лейский пейзаж, где ни что не остается неизменным даже на пульс. Хотя, выбирая тему для своей передвигающей, я понимал, что рано или поздно найдется и здесь сила, которая остановит извержение вулкана. Вот только кто будет этой силой: Ората, культовые ордена Хранителей, орбитальное государство Старгелонов или, может быть, зарождающаяся в руинах цивилизация «старших»?
- Глурь, кто такие «старшие»? – задал я вопрос, который периодически мучил меня вот уже четыре сайны. Об этих мутантах говорили на Менлайне все: одни – что они материальны, другие – что нет, одни – что они опасны, как слизь, другие – что они наивны, как дети. О них высказывали настолько разные суждения, что понять что-либо определенное было просто невозможно.
- «Старшие» – это те, кто старше, - ответила Глурь. Несмотря на тавтологию, она была совершенно серьезна, и в тембре ее голоса чувствовалось искреннее желание донести до меня истину (так лгут дипломаты, когда хотят убедить противника в самых дружественных намерениях своего правительства перед началом войны).
- Глурь – это Глурь, - передразнил ее я.
Внезапно она остановилась и посмотрела мне в глаза с затаенной тревогой, словно оценивая, смогу ли я выдержать удар, который она приготовилась мне нанести. Потом закусила верхнюю губу, посмотрела на пол, снова заглянула мне в глаза и тихо сказала:
- Я – «старшая», Прохроналг. – Так люди сообщают друг другу о неизлечимой болезни или смерти близких, так херениане встречают гостей, так признался мне в любви мой жених Гарнакс-Танг.
«Странно, что она помнит, как меня зовут», - подумалось мне, прежде чем мы пошли дальше, пиная по очереди одну пластиковую бутылку.
Через несколько минут мою попутчицу стало что-то беспокоить. Она без конца теребила пальцами собственный нос, накручивала на них полоски своего балахона, а глаза ее будто искали выход из этого подземелья.
- Что изменилось к худшему во вселенной? – спросил я девушку, тоже почувствовав некоторое беспокойство.
Глурь попыталась убить меня взглядом, но это ей не удалось, и тогда она произнесла страдальчески и очень аппетитно:
- Курить хочется!
Испытав эстетическое удовольствие от ее тягучей интонации, я так и не понял, в чем заключается проблема. Видимо, особь вступила в какой-то конфликт: либо с реальностью, либо с самой собой, либо она вообще не отделяет объект от субъекта. Я чувствовал, что она испытывает настойчивое желание съездить мне по мозгу своим оружием, но что-то мешало ей это сделать. Это выглядело просто абсурдно, ибо, сколько мы людей не препарировали, но фильтрующей мембраны так и не нашли.
Наконец, увидев одинокого прохожего, неровной походкой двигавшегося нам навстречу, Глурь подошла к нему и устрашающе спросила:
- Зажигалка есть?
- Хочешь огоньку? – переспросил громила, ухмыляясь. Одна рука у него была из металлопластика, другая почти разложилась, а его лицо вы можете представить, только если когда-нибудь видели лягушек и негров одновременно. – Может, пойдем повеселимся с моим дружком, а лайсочка? – весело предложил мутант.
Он явно был очень доволен самим собой и окружающими. Попытавшись представить, какие у него могут быть знакомые, я поразился царившей в его облике гармонии с космосом.
Однако Глурь совсем не разделяла моего восхищения. Обрезок арматуры, будто океанический монотектоид, резко взлетел вверх и поразил мутанта в репродуктивную систему. В его взгляде отразилось глубочайшее удивление, и, издав булькающий звук, он сложился вдвое. Тогда Глурь, хорошенько прицелившись, ударила его заостренным концом лома по колену. Мутант упал на бетон и завизжал от дикой боли. Коленная чашечка у него, без сомнения, была раздроблена.
Бросить беднягу в таком положении было бы жестоко даже с точки зрения обитателя Муарцеха. К счастью, Глурь избавила свою жертву от дальнейших мучений. Наступив извивающемуся от боли мутанту на горло, она сильно размахнулась и хлестанула арматурой по его широкой лоснящейся переносице. Раздался глухой хруст, и по серому полу расползлось большое черное пятно.
Вытащив из кармана куртки поверженного врага желтую зажигалку, девушка вскрыла пачку «Голубой розы», несколько раз щелкнула колесиком, выпускающим пламя, и жадно затянулась.
- Хочешь? – спросила она, протягивая мне тонкую золотистую трубочку и выпуская сквозь ноздри ароматный зеленовато-голубой дымок.
Я отказался: спать мне пока не хотелось.
* * *
Было уже около трех ночи по сеулингскому времени, когда мы наконец вышли на поверхность. Широкий круглый туннель вывел нас в пригородный район на побережье Каду. Я даже не мог предположить, что мы столько прошагали по подземному городу.
В трясине ночного неба мигали блуждающие огоньки звезд, маня к неведомым сокровищам и страшным тайнам еще не познанных миров. Над развалинами города клубилась черными облаками токсичная тьма, а из-за восточного горизонта выглядывал огромный диковинный глаз: золотисто-желтый Лаурагар сиял прямо в центре багрового яблока Каннура, словно янтарный хрусталик какого-то древнего божества. Третья луна уже закатилась, но бело-голубая Земля, или Клидде, как зовут ее найпы, по-прежнему занимала 1/5 небесного экрана, - это была самая большая жемчужина в ожерелье Менлайна.
От этого восхитительного космического пейзажа нельзя было отвести глаз; руины после него выглядели, как простая помойка.
Где-то там, в созвездии Сапога, или Кортле, как зовут его хнорты, за порогом зрения таился мой Лей. Сейчас мне казалось чудовищным и невероятным, что я мог покинуть его. Я вспомнил прохладный шелк стен моей башни, преданного герха Уклса, свои записи и окна ночных путей. Внезапно мне захотелось до исчезновения ясности листать Своды, так надоевшие нам за периоды вступления, слушать заученные силлогизмы и воспоминания придурков наставников и, беседуя о Пендркохоуре или о политике, обмениваться с односекторниками дразнящими прикосновениями ног под информ-панелью. Мои питающие язвы снова наполнились густыми выделениями Катносимара, а пальцы ощутили трепещущие от новизны гладкие перья Гарнакса-Танга, моего первого кандидата в братья. У меня, конечно, и до него были женихи: в Намиасе было весело, жарко, мы все были юны и полны жизни, как личинки, а мои складки и феромоны могли оставить равнодушными разве что Хот и Гуам. Но Гарнакс – это было что-то особенное. Мы с ним и в шестерке-то никогда не были, но когда мы впервые почувствовали друг друга, мне показалось, что я утонул в эланке’се, или у меня в голове родилась сверхновая.
Он шутя прорешал Хекартлапира за полсезона и по памяти собирал информаторы, но когда мы оставались наедине, - все время ронял рег, путал руки и был фиолетовый, как дохлый фларс. Я понимал, что я – единственный, в ком он сможет видеть брата. Ему достаточно было понюхать меня, - и я уже плавал, сказать какое-то ничего не значащее слово, - и я уже не мог жить. Это, конечно, непотребство, но нам казалось, что мы можем заменить друг другу пятерых. Я читал, такое часто свидетельствует о высоком предназначении, но все равно, несмотря на гордыню высшей нервной, весь мой организм и память веков неистово сопротивлялись такой противоестественной страсти. Как ни нюхай, это было извращение, не взирая на всю изысканность наших отношений. Старик Таглипарс, хорошо знавший нас обоих, посоветовал мне уехать, развлечься наукой, посмотреть Внешний Лей, и это определило тему моей передвигающей.
Гарнакс ни в чем не упрекал меня и даже не спал; я знал, что он всегда поймет меня и будет по-прежнему видеть во мне элля.
Помогая мне собирать записи и консервы перед отъездом, он сказал:
- Скажи, ты вернешься ко мне?.. Ко мне одному?
Был «час отлива», и я видел, какого колоссального напряжения сил стоили Гарнаксу эти слова.
- Да, - ответил я, и мы впервые соприкоснулись перьями.
А теперь я смотрел на Землю, нимфоида человеческой цивилизации, и понимал все, что было и что будет потом. Любовь – это жемчужина, а мозг – моллюск. Вначале в его складки попадает случайная песчинка, которая начинает раздражать его, царапая своими острыми краями, и моллюск пытается выплюнуть ее, избавиться от досаждающей крошки в своей кремниевой постели. Но это ему не удается, и тогда его ткани начинают защищаться сами, выделяя вещество, обволакивающее острую песчинку, и вскоре она становится крохотным перламутровым шариком. Однако чем больше становится этот инородный предмет, тем больше страданий причиняет он моллюску, и тот покрывает его все новыми слоями перламутра, не ведая, что тем самым только увеличивает тяжесть своего положения. Проходят годы боли и слез, и маленькая песчинка превращается в огромную прекрасную жемчужину совершенной формы, морской бриллиант, играющий всеми составляющими белого света. Жадный нож ныряльщика вынимает ее из раковины, и она доживает свои дни гордостью королей, музейным экспонатом или усладой какого-нибудь коллекционера, и, любуясь ей, никто и не вспомнит ни о песчинке, ни о моллюске, давших ей жизнь…
- Ты что, оттуда? – прервала мои лирические раздумья Глурь, указывая пальцем в небо. Ее, наверное, удивляло, что я так долго смотрю вверх с открытым ртом.
- Ага, - ответил я и добавил, указывая на Кортлу: - Вот оттуда.
Я посмотрел на Глурь и вдруг понял, почему я пошел за ней. От нее пахло не башнями, а любимыми духами Гарнакса.
- Глурь, ты кого-нибудь любила?
Глаза ее на мгновение погасли, а на губах снова появился интеграл.
- Маленький мальчик на Лаурагаре играет облаками. Все котята спят в корзинках, - спела Глурь первые слова найпской колыбельной песенки.
Ей было 13, когда она села на иглу: сначала была «шрапнель», потом – ликой, дальше обычно следовала смерть. Но ей повезло, - она встретила Ви. Она пришла к ней занять денег, когда больше не могла выносить ломку. Ви была опытной женщиной, хотя и была старше Глури всего на 10 лет. Она научила девочку снимать тоску по танакану отваром маруги и другим наркотиком – утонченной плотской любовью.
Глурь росла одна: ее родители, бросив девочку на милость руин, бежали в Талсион, когда ей еще не было и 4 лет. Поэтому Ви заменила ей и мать, и подругу, и любовницу. В 15 лет Глурь стала женщиной, но близость с парнем не могла заменить ей того удовольствия, которое она испытывала, когда сама чувствовала себя мужчиной.
- А где сейчас Ви? – спросил я и тут же понял, что совершил подлость.
- У нее была опасная работа, - ответила Глурь.
Ви была высокооплачиваемой шлюхой.
* * *
Преодолев запутанный лабиринт гигантского Талсионского вокзала, превратившегося в кладбище для сотен километровых составов и обтекаемых скоростных локомотивов, мы вышли к реке. В свете звезд ее волны поблескивали текучим серебром.
Ночь оставила видимой только красоту, укрыв своим черным покрывалом кучи мусора, пятна нефти на густой от нечистот воде, грязно-серый бетон развалин, из которых торчали кости искореженных металлических прутьев. Ночь обнажила плеск волн, раскрасила тьму руин отблесками лунного света, унесла прочь парящий зной и подарила нам драгоценную прохладу.
Глурь подошла к реке, опустила в воду босую ногу, и у нее на лице отразилось неземное блаженство. Я последовал ее примеру, и разделил с ней радость.
- Ты любишь ночь и воду? – спросила Глурь.
- Да. Ночью видно звезды, с которых я пришел… вернее, сбежал.
- От кого?
- От себя.
Войдя в воду по колено, Глурь пошла в сторону железнодорожного моста, который темной громадой нависал над рекой касах в 300 к югу от нас. Около одной из его опор, огромного бетонного столба, стояла маленькая железная будка, где раньше, наверное, дежурили железнодорожники, а может быть, хранились какие-нибудь инструменты.
Девушка подошла к двери, немного приподняла ее на петлях и, повернувшись к ней спиной, с силой пнула пяткой.
Дверь с душераздирающим скрипом открылась, и мы вошли внутрь. В будке было темно и очень сильно пахло Глурью. Я перевел зрение в ночной режим и осмотрелся.
Изнутри стены будки были оклеены глянцевыми листами старых фоменоримских журналов с кулинарными рецептами и фотографиями каких-то женщин, всюду висели колокольчики, бумажные игрушки и металлические предметы непонятного назначения. Несмотря на то, что места в комнате было много, обстановка была крайне скудная. Слева от входа стоял шкаф без дверцы, где беспорядочно лежала одежда, в углу рядом с ним приютилась бензиновая горелка, а прямо перед нами, словно королевский трон, возвышался роскошный секретер из редчайшего янтарного дерева, отделанный блестящей черной костью вехайла и золотом. Должно быть, когда-то он украшал покои какой-нибудь лараминской принцессы или каранайры одного из Великих Домов, а теперь, судя по отражавшимся в его большом восьмиугольном зеркале пустым бутылкам и немытым тарелкам, служил Глури кухней. Пол в комнате был покатый. У правой стены, там, где он был выше, лежал небольшой голубенький матрац, а у левой образовалось углубление, в котором стояла дождевая вода, стекавшая с пробитой крыши. Интерьер дополняла висевшая на цепи в центре помещения церилла, у которой не хватало одной струны.
Воздев руки над головой и издав ликующий клич, Глурь с разбегу бросилась на матрац. С минуту она лежала спокойно, потом широко разбросала руки и уперлась ногами в стену.
- А у тебя есть что-нибудь съестное? – скромно поинтересовался я, по-прежнему возвышаясь перед дверью.
Девушка села на постели и надолго задумалась. Затем она торжествующе подняла палец, вскочила на ноги и, щелкнув зажигалкой, активизировала осветительный прибор очень необычной конструкции: он состоял из длинного прямого стержня, изготовленного из какого-то плотного вещества органического происхождения, и высовывавшегося из его верхушки хвостика, пропитанного горючей жидкостью. Я даже пожалел, что у меня нет аппаратуры для химического анализа.
Порывшись в ящике своего янтарного дворца, Глурь извлекла оттуда жестяную банку с изображением счастливого варпа, парнокопытного жвачного животного, мясо которого в банке, без сомнения, и содержалось.
- Разогреть? – спросила Глурь, с грустью глядя на банку, и по ее тону я понял, что сильного желания возиться с примусом она не испытывала.
- Пожалуйста, не стоит! – воскликнул я умоляюще.
Есть хотелось, как после ориентирования, и ждать я больше не мог. Вскрыв банку когтем, я в течение двух с половиной пульсов съел все мясо, которое было уже очень древним и никак не могло принадлежать варпу.
С трудом преодолев искушение проглотить пустую жестянку, я упокоился в сухом углу рядом с матрацем. Глотать рургу не хотелось, к тому же, наш Устав Внегалактических Перелетов категорически запрещал впадать в бессознательное состояние на чужой планете, и я ограничился регенерирующим покоем, спустив энергозатраты на минимальный уровень и внимательно наблюдая за поведением девушки.
Увидев, что я впал в полный покой (для большей уверенности она несколько раз легонько пнула меня ногой), Глурь преобразилась до неузнаваемости. Движения ее сделались грациозными и плавными, а походка стала отдаленно напоминать женскую.
Она сняла свой балахон, смяв, бросила его на пол и переоделась в обтягивающие трусики из блестящей черной кожи и длинную красную безрукавку с изображением космического крейсера «Нахаль» на спине и воинственной надписью «ТАРНЕЛАЙСЕР» на груди. На ноги она обула черные лакированные туфли на высоком каблуке.
Для начала Глурь немного помузицировала. Взяв в руки цериллу, она начала наигрывать какую-то незатейливую мелодию и самозабвенно кружиться вокруг центра комнаты в медленном танце, словно маура – вокруг своей норы, словно Лей, вращающийся вокруг своего подвыпившего солнца. Играть она совсем не умела, хотя, возможно, проявляла в своем творчестве нарочитую дисгармонию, пытаясь, как Пройс, выразить в нем весь хаос своей вселенной.
Затем, покинув цериллу в состоянии раскачивающегося маятника, Глурь уселась за свой секретер, вынула из выдвижного ящика маленькое зеркальце с изящной белой ручкой и швырнула его в стену. Брызнувшие осколки стекли на дно лужи, поблескивая серебряными монетками в прозрачной воде, а отломившаяся ручка отлетела к противоположной стене. Глядя на нее, я почему-то вспомнил длинную белую шею собакоголовой проститутки из храмового кафе.
Часто бывает так, что в каком-то существе прекрасна только одна деталь: одна часть тела, одна черта характера, а остальные будто мешают ее красоте. Когда я вижу таких хнортов или людей, мне хочется отделить от них эту прекрасную часть, унести с собой на берег океана и наслаждаться ей в тиши, как совершенным произведением искусства. Но бывают и другие существа – те, в которых какая-то одна черта делает прекрасным все остальное. Ее гармония и красота наполняют весь облик этого существа, всю его жизнь, так что каждый его атом движется, подчиняясь этому божественному ритму, и оно хранит в себе совершенство, независимо от собственных дел, мыслей и слов. Когда я встречаю таких уникальных представителей живой природы, я чувствую себя ничтожеством, пылинкой во власти ветра, зловонным дыханием практоры, низко пресмыкающейся перед хищником ради куска падали. Бессознательно я пытаюсь превратиться в это прекрасное существо. Благодаря закону Фепла исходящие от него волны приводят наши частицы в состояние полного резонанса, и я понимаю, что не могу выносить наполняющей меня совершенной, восхитительной жизни. Однако простор почему-то не приходит, и я остаюсь в живых.
Правда, со временем организму требуется все больше и больше эланке’са, потребность в счастье быстро растет, и впечатления прошлого уже не могут ее удовлетворить. Тоска вечного расставания превращается в вакуум, заполняющий сознание, единственная цель которого – разодрать тебя на части, но неизмеримо возрастает и экстаз единения.
Глурь была наркоманкой и нимфоманкой, поэтому ей было хорошо знакомо это колесо. Она была очень одинока и страдала неизлечимой психической болезнью и, хотя прекрасно понимала это, чудовищно гордилась собой, чувствуя себя своего рода числом ? во множестве действительных чисел.
Вот и сейчас – она накладывала на веки фиолетовые тени и восхищалась своим отражением в зеркале. Припудрив нос, Глурь покрасила маленькой черной кисточкой ресницы, отчего они сделались более пушистыми и зрительно удлинились, потом открыла миниатюрный розовый цилиндр, покрутила его и, приоткрыв рот, намазала губы какой-то мазью шоколадного цвета с блестками.
Ее глаза закрылись.
Какое-то время в ночной тишине слышалось только ее глубокое прерывистое дыхание, да изредка раздавался звон капель, падающих с потолка.
Прошло несколько минут, и Глурь снова взглянула на свое отражение. В ее глазах пылал какой-то тусклый, древний огонь. Подрагивающие пальцы медленно, будто лаская тонкую ткань, расстегнули пуговицы безрукавки, нежно помассировали маленькие темные соски, коснулись живота. Ладонь девушки прижалась к полуоткрытым губам, и они ответили ей страстным поцелуем. Указательный палец скользнул в рот, потом долго путешествовал по шее, лизнул грудь, а когда он вошел в углубление пупка, она задрожала от наслаждения.
Затем я увидел, как Глурь встала со стула и опустилась на четвереньки перед лужей. Плавно покачиваясь, она долго наблюдала за игрой неяркого света на колеблющейся поверхности воды. Казалось, ее заворожило сверкающее на дне серебро и разбегающиеся от ее дыхания круги.
Откуда-то издалека доносился тихое ритмичное постукивание.
Внезапно девушка опрокинулась на бок. Ее правая рука, будто против ее воли, проникла под эластичную резинку трусиков, и она начала медленно тереть ребром ладони между ног, плотно сжимая бедра. Дышала она с трудом, а минуты через две стала тихонько подвывать в такт движениям руки. Глаза ее были закрыты, на лбу и на верхней губе выступили капельки пота.
Металлический стук становился все громче, он неумолимо приближался, он все рос и рос, пока не превратился в страшный грохот, заполнивший всю вселенную. У нас над головой шел поезд с Нагалихи. Мои слуховые пленки с трудом выдерживали рев мощного двигателя, работавшего в каком-то десятке касов от нас, и бешеный стук колес. От чудовищной вибрации дрожали стены, раскачивалась мебель, билась, падая на пол, пустая посуда. Эта дрожь проникала в каждую клеточку тела, подчиняя все своему дикому ритму и могучей бесчеловечной силе. Меня выворачивало наизнанку, в голове гремел гром и сверкали молнии. Хотелось закрыть руками уши и кричать или биться головой о железный пол.
И Глурь кричала. Ее рот широко раскрылся, но грохот поглотил крик. Движения ее руки сделались неистовыми, казалось, она хочет распилить себя надвое. Стройное тело выгнулось дугой в судороге наивысшего наслаждения, острые каблуки ее туфель скребли пол, оставляя на нем светлые полоски, а обезумевшие губы все кричали и кричали.
Казалось, этому не будет конца. Я думал, что Глурь сейчас просто исчезнет в яркой вспышке аннигиляции. Но гул и грохот постепенно стихали, пустой поезд уходил куда-то на запад, и мир возвращался на место.
Глурь крестом лежала на полу, раскинув руки в стороны, и жадно ловила ртом воздух. По ее лицу текли слезы.
Когда последнее эхо поезда растворилось в тишине, она села, вымыла руку дождевой водой из лужи, медленно подползла к двери и, прислонившись к ней спиной, закурила. Вскоре слезы на ее щеках высохли.
В комнате расцвела огромная голубая роза с лепестками из слоистого дыма, уносившего мои мысли в абсурдный мир сновидений. Поскрипывая, качалась на своей цепи старенькая церилла. Остекленевшие глаза Глури глядели в пустоту, а пустота смотрелась в них, как в зеркало.
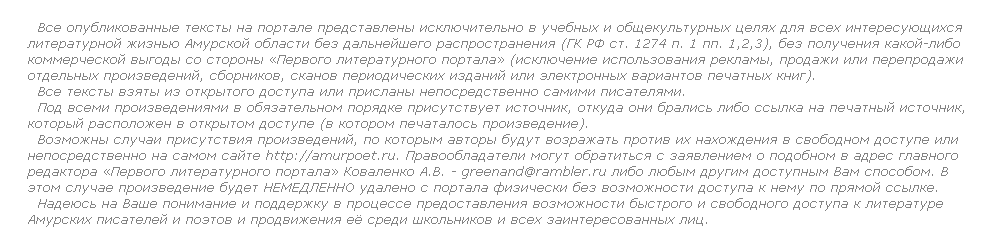
|