Первое утро
Никто уже и не помнит, как три дня и три ночи длилась
полночь на вершине Хель,
и как в конце восстал он из могилы на восточном склоне
той горы и проклял мир одним взглядом
своих черных глазниц…
«Унэдагнир» 318.В.IX.
Оглядываясь на минувшее, я часто не могу поверить, что встающий перед моим взором эскиз безумного абстракциониста – действительно МОЕ прошлое, а потому, мой читатель…
…Я мог бы сказать, что я нашел ее среди серых скал, где она кричала, протяжно, словно морская птица, кружащая над бесконечностью бушующих волн, и в ее обессилевшем взгляде не было даже отчаяния, этого последнего обличья надежды, ибо слезы ее давно уже превратили окрестные пустыни в океан Энлайошу. Ее глаза были такими же серыми, как небо над Маг-Муиртемне, хотя, вглядевшись в него, можно было заметить в глубине сотни крошечных бриллиантов, сверкавших, подобно разноцветным звездам сквозь безлунную ночь ее ресниц. И чтобы увидеть, как она смеется, мне пришлось сладкозвучными заклятиями заманить Кецалькоатля в пасть Раху, отчего у Пожирателя Луны произошло несварение, и полнолуние продолжалось сто стандартных лет. И она смеялась, и смех ее был смехом Морриган накануне битвы при Гайрех и Илгайрех, тем самым смехом, что обрывался в тишину лишь тогда, когда некому уже было его слышать. И его когти, словно ласковые руки Махи, навсегда сомкнулись на горле моей памяти…
…Я мог бы вспомнить, как в размытом алкогольном мареве, смешанным с героиновым откровением и ненавящевым сатори из тысяч свечей в причудливых канделябрах, я нес какой-то апокалипсический бред на коронации Людовика XVI и вдруг, ослепнув от неземной белизны ее плечей, подобно дивным лебедям озера Экмор, взлетающих в небесную синеву ее взгляда, вернулся в Эдем. Туда, где «кифелох харимон ракатейх м’баад залгатейх»?, и твои волосы - как распустившаяся в моих ладонях черная роза, чей аромат подобен солнечному свету для вернувшегося из преисподней Господней любви. И воистину не было никого счастливее нас двоих, ибо никто, кроме нас двоих, не вошел в тот сад, где ни один плод не мог быть назван нечистым…
Однако пускай эти грани многомерного кристалла истины останутся в тени, чтобы мы не блуждали в лабиринтах моих снов, а уверенным и твердым шагом ступали по заснеженной равнине реальности.
Вместе с тем, бесценный читатель, храни в памяти, что в течение этого последнего путешествия мы порой будем проваливаться сквозь хрупкий покров льда, коварно скрывающегося под снегом обыденности, и оказываться в ледяной воде крайне нелицеприятных обстоятельств. В том бессознательном и жестоком мире, что лежит возле самой поверхности того животного (читай: естественного) псевдонаучного оптимизма, на зыбучих песках которого возвышается твой мир.
А так как нашим проводником на этом опасном пути станет любовь, самое непостоянное, аморальное и обманчиво легкомысленное, словно цветочная полянка на поверхности бездонной трясины, создание Илуватара, то будет нелишним напомнить, что…
…Солнце все еще стояло в созвездии Близнецов, а до Явления Элара оставалось 18 звездных зим, когда она превратилась в богиню отраженного света.
Но мне было все равно.
Кипящая каша, в которую под действием летнего зноя превратился город, растекалась дымящимися ручейками отдыхающих толп и застаивалась на обочинах шоссе тихими озерками пригородов. Люди, древовидные от выпитой воды, превратились в одну сплошную лужу слизи, лениво стекавшую в углубления рек и озер. Они ползали вокруг, как ослепшие крысы, шевелили хвостиками желаний и издавали резкий ранящий смех.
Но мне было все равно.
На заднем дворе моей памяти смуглый маленький мальчик чертил на песке арамейские буквы, прочтя которые потомки могли бы разгадать все тайны бытия. Он еще не знал, что они тысячелетиями будут развлекаться его распятием и не заметят его знаки, стерев их кровавыми отпечатками своих кованых сапог. Он верил, что, если смотреть в глаза прохожих ясным и добрым взглядом, то увидишь в них отражение Бога, и «Он говорил, - воскликнул Сатнор, - в этот день и этот час над нами встает Светило любви, и оно будет светить вечно!» А солнце мудро и безжалостно палило с небес и по-прежнему стояло в созвездии Близнецов, и каждый день снова порождал ночь.
Но мне было все равно.
Было лето и тошнота.
Потому что моя звезда, словно Люцифер, упала за горизонт, и лето, соскочив со старенького велосипеда, сгустилось вначале в дрожащее марево, а потом превратилось в разноцветный мираж лет пятнадцати. Короткое сиреневое платьице едва прикрывало ее загорелые бедра, и она делала все, от нее зависящее, чтобы это ему не удавалось. И она была, словно роза, которая только что поняла, что уже распустилась, и что она прекраснее всех остальных цветов. Я долго не мог определить, какого цвета были ее глаза, мне казалось, что из них в мир льется радуга драгоценных каменьев.
Улыбка, всегда готовая вспыхнуть в ее глазах, ее слова, бесконечно далекие от рамок эльфийской риторики, и даже капризные дуги тонких бровей, - все в ней, казалось, говорило: «А вот и я!» Она любовалась своими жестами и мыслями, выражением лица и покроем старенького домашнего платья, даже своими ругательствами и распущенностью, так свойственной богиням. Каждым взглядом и движением она дразнила Зверя, и ставкой в этой игре было бытие.
Словно уверенная в своей смертоносности бактерия, она позволила себе задремать в закоулках моего больного сознания. К тому времени я уже знал, что атом сконструирован неправильно, что форма лукаво выдает себя за содержание, а сам я – чья-то нечаянная и в то же время закономерная ошибка.
А потому я позволил вирусу этой любви, первой любви моей жизни, поселиться в моем сердце и питаться моей кровью. Больше того, я сделал его своим возлюбленным питомцем, хотя знал, что ему суждено стать моим палачом, и «некогда бывшие» тысячи лет назад возводили храмы Алоинари, богине отраженного света…
Усевшись верхом на заборе, лето без умолку говорило о себе. Как и Шейхцер, она любила кошек и грушевый джем (не правда ли, странное совпадение?), а в выборе друзей была крайне избирательна, что, однако, не мешало ей иметь их в огромном количестве. В своем непреклонном стремлении доказать свою независимость она старательно не слушалась маму с папой и мечтала создать новую политическую партию, хотя до родной страны ей в общем-то не было никакого дела.
Круг замкнулся, и хотя ее мысли и чувства были для меня ясны и предсказуемы, как не один раз виденный фильм, я впервые простил ей, что она человек, отпустив таким образом себе все последующие грехи.
Решетка за моей спиной с грохотом захлопнулась, и мы остались с ней один на один в темнице моего существования.
Однажды вечером, когда колесница Гелиоса уже вышла на финишную прямую и кидала последние яркие лучи сквозь разомлевшие аллеи тополей, мы вернулись из тяжелого похода, наполненного невиданными приключениями и кровопролитными сражениями. Она загнала на смерть не одного скакуна и изрубила на куски сотни врагов, и теперь, откинувшись на спинку кресла, пила вино и тяжело дышала (скорее от азарта, нежели от усталости).
И лицо ее пылало румянцем битвы, и в глазах ее горел огонь жестокости, неутоленной и невинной жестокости хищницы.
Я впервые взял ее с собой в тот край, где каждый был героем, в страну, населенную колдунами и волшебниками, храбрыми паладинами и прекрасными воительницами, феями, эльфами и чудовищами, чей облик леденил даже самую горячую кровь. Путь был извилистым, и на каждом шагу нас подстерегала опасность, но вскоре я понял, что она – достойный противник.
Там, в цитадели Корракстон, при свете луны я говорил с ней на давно забытом языке перворожденных, просторном и светлом, как пение птиц в Лориэне, и нарек ее именем Эйфель, что значит «родник», и в отблесках последних свечей она стала богиней Лун и Владычицей Ночи, которую майрики чтили как Ами-Лэю.
Пора было расставаться, но мы оба знали, что это невозможно, и она была для меня и Мелиан, и Эсте, и Тинувиэль, и слова ее были, словно чудесная музыка, и губы ее были сладкими, как нектар…
А теперь, когда мы вернулись в оплеванные стены реальности и все войны отшумели, я понял, что люблю в ней то, чего нет во мне самом, люблю лишь для того, чтобы покончить с тем, что во мне есть.
- Сядь на фоне заката, чтобы я мог видеть, как последние лучи позолотят твои волосы и плечи, - попросил я ее.
Она смущенно улыбнулась и выполнила мою просьбу. Навсегда остался в моей памяти тот мимолетный образ, и солнечные лучи по-прежнему освещают ее растрепанные темно-русые локоны и золотистые плечи.
Мои менестрели играли последние ноты мелодий, которые я дарил ей вместо цветов и драгоценностей, и в глазах ее вновь появилась какая-то тоска, даль непотаенная. Со временем я понял, что эта странная грусть, всегда скрывавшаяся в заветной глубине ее души, делала ее еще прекраснее, чем она была в действительности. Но я был не в силах избавить ее от боли прошедшего, ведь она была старше меня на тысячу лет.
- Мне кажется, что ты проходишь мимо. Твоя улыбка здесь, но мысли не со мной, и время, как всегда, неумолимо уносится безумною рекой. Ты вновь уходишь, таешь, словно призрак, оставив сумерки и тонкий аромат, слова и волосы, бровей изгиб капризный… Лишь об одном прошу: вернись, пока закат.
- Как красиво! – восхищенно воскликнула она. И прошептала в ответ:
- Книги-души содержание – перелистнуть и забыть, я влюблена в расставание, – мне на рассвете уплыть. По морю, нету которого, лодкою, хрупкою пусть. Не говори мне «До скорого!» – я не вернусь, не вернусь!..
А потом она умерла.
Я не могу сказать с уверенностью, когда это случилось. Возможно, в тот день, когда она перестала быть тем человеком, которого я знал на протяжении трех лет. Возможно, через полгода после этого, когда она вышла замуж. А может быть, теплым летним вечером, когда обкурившиеся коноплей подростки распороли ей живот, изнасиловали и уже бездыханную бросили в реку.
В Овраге всегда тепло и сухо, и большее всегда вмещает в себя меньшее.
Костер не мешает снегу падать, а снег не падает в костер и не мешает ему гореть. Я думаю, снежинкам жаль горящие прошлогодние листья, иначе они, конечно, засыпали бы их. А так, они умирают в горячем воздухе по одиночке, и им это нравится.
Я знаю, что подлость рождается от прошлого: где-то между теми тремя отдельно стоящими белыми деревьями и желанием. Поэтому я редко там бываю – мне не нравится быть злым. Хотя, поджигая какую-нибудь деревню и прокалывая вилами выскакивающих из домов жителей, я почти забываю, что такое боль. Чужое страдание, как пища, всегда отвлекает от своего собственного и позволяет жить.
День длиннее ночи, поэтому спать лучше днем.
Там, на горизонте, ничего нет, это только кажется, что кто-то идет.
Она впервые за долгие годы навестила мой дом.
Разрыть могилу было несложно. Труднее было справиться с крышкой гроба. Руки окоченели, и мне приходилось согревать их во рту, чтобы вырвать раскаленные от холода гвозди. Но даже когда все препятствия были позади, я долго не мог открыть гроб.
Меня вновь охватило ужасное волнение, словно холодный металл сковал мое сердце, как тогда, когда я впервые увидел ее. Я боялся и хотел ее.
Под землей она очень замерзла, тело закоченело и не гнулось, поэтому я поднял ее на руки, так нежно, как только мог, и понес в Овраг, к костру.
Казалось, она просто спит.
Как же ее зовут?
«Знаешь, я не помню, как твое имя, но я люблю тебя!»
Нет, это плохое начало.
Камни всегда очень твердые. Я не видел ни одного мягкого камня. Зачем они вообще нужны?
Просто между нами всегда были какие-то стены. Хорошо, что теперь мы рядом.
Хрустит наст, каркают черные птицы, раскачивая взлетами сухие голые ветки деревьев, и светит солнце сквозь туманную дымку. Холодно. Но я уже привык. Стеклянные иголочки снега искрятся в скупых лучах небрежно брошенного света и слепят глаза. Где-то вдалеке слышен незнакомый шум, но я стараюсь чувствовать только свое дыхание и вслушиваюсь в звук своих шагов, пытаясь понять, что же происходит.
Несу домой свою невесту, к нам домой. На ней белые туфли и белое свадебное платье, да и волосы почти поседели. Она похожа на льдинку или на цветок водяной лилии.
Время от времени потрескивавший у меня на груди голубой ящичек сообщил, что я убил уже больше 700 человек, а нанесенный мной материальный ущерб составил 50 млн. рублей.
Но я знаю, что он лжет – я убил 2000 человек, а коров и свиней еще больше. Этот предмет давно висит у меня на шее и даже развлекает меня своей болтовней. Правда, всегда врет, даже когда предсказывает погоду.
Кажется, что все это уже было.
Группа странных предметов в небе пытается изобразить неправильный четырехугольник. Наверное, это птицы. Они склонны к логике и питаются семенами.
Вот и Овраг.
Я посадил ее у костра, прислонив спиной к своему домашнему дереву, соорудил из досок роскошный стол и разогрел вчерашнего зайца, приправив мясо луковым соусом и корицей.
- Хочешь есть? Я со вчерашнего дня ничего не ел.
К зайчатине, несмотря на потрясающий аромат, она даже не притронулась. Наверное, она не любит мясо. А может, просто следит за фигурой. У нее есть за чем следить.
Наступил вечер, и я зажег свечи, которые взял в одном из разрушенных домов. Свечи – это красиво и напоминает о родине. Наверное, перед тем, как появился я, были свечи.
Она явно оттаивала: туловище заняло естественное положение, конечности стали гнуться, а на лице появилось подобие улыбки, потому что нижняя челюсть опустилась вниз.
Господи, как я люблю эти губы, эти уши, эту шею!
Я налил ей бокал вина, но она не стала пить. Я тоже не понимаю, зачем это нужно.
Скорее всего, разбирать вещи на части – это плохо, а собирать из них новые – хорошо. Думаю, именно на такой морали основана жизнь. Пока ее нет, скучно земле и небу, но они не исчезают, а ночь все равно наступает вслед за днем, и снег все так же идет.
Правильнее говорить «падает», хотя некому.
- Давай поговорим, любимая, - предложил я, хотя знал, что она не ответит. – Я понимаю, ты не можешь. Но это ничего, я знаю, что ты слышишь меня.
Я привык говорить с кем-то внутри себя.
Ты знаешь, небо на самом деле состоит из нескольких частей, которые похожи на само небо, но меньше. Если долго смотреть, то можно увидеть каждую из них как одно отдельное небо, и оно тоже будет состоять из маленьких небес.
Принципиально важно ни на чем не задерживать взгляд и мысль, и это придет.
Люди – это существа с руками и беспокойством в глазах. Они всегда куда-то идут и часто встают у меня на пути. Они препятствуют мне, мешают делать то, что я хочу. Поэтому сами вызывают свою смерть. Не я убиваю их, они сами убивают себя.
У бурундуков тоже беспокойный взгляд, но они не говорят и закапывают ягоду на зиму.
Сразу видно: кто достоин жизни, а кто нет.
Но никто не может увидеть себя.
Между направлением, в котором ты движешься, и верой в слова есть связь.
Когда не помнишь, кто ты, откуда ты, зачем ты, не хочется верить никому. Поэтому я не помню и не верю, я знаю «сейчас».
Как отвратительно видеть, как существа с руками говорят. У них нет своих слов, своих глаз, своей жизни. Они произносят чужие фразы, видят чужими глазами и живут, как не-они. Так пусть не живут!
Между вещами нет границ.
Когда понимаешь, что есть только одна вещь, становится легче ею управлять. Везде – только ты. Но ничего нельзя назвать «Я».
Многие не думают, что солнце. Очень редко узнают, что оно есть.
Благодаря очевидности предмета его не видят вообще, понимаешь?
В костер часто попадают случайно валяющиеся палки. Так моя цель оправдывает чье-то существование.
Если сутки ни о чем не думаешь, превращаешься в повозку для ветра или становишься призмой к свету.
Поэтому я думаю о тебе.
Под землей живут полосатые змеи, которые могут давать силу, если позвать их вовремя и натощак.
Чтобы полнее сказать слово, говори только его и ничего больше. Одна мысль содержит в себе больше, чем несколько.
Радость становится лучше, если во время нее вокруг взлетают птицы или начинается гроза.
Не люблю собак, за то, что они бегают неспроста и часто совокупляются.
А вот деревья не ходят и не разговаривают. Хотя возможно, что они передвигаются очень медленно или когда я сплю, ведь когда я сплю, я не вижу того, что вокруг.
Скорее всего, мое тело перестанет жить во сне.
Когда я вижу красивое дерево, я не могу сдержаться и целую его кору, глажу ветви, прижимаясь к стволу спиной. Если дерево отвечает мне с любовью и нежностью, я беру в рот его чувствительные молодые листики, ласкаю тоненькие веточки, и в моей нижней части начинает что-то увеличиваться и расти. Наверное, это любовь.
Снег не тает осенью, зимой не цветут цветы.
Поэтому в промедлении заката и торопливости гнева видится раскаяние. Что еще нужно?
Между глазами нет расстояния, но один не превращается в другой.
В этом – все ограничения и законы.
Я их переступаю. Приятно создавать новые формы из старых, а затем разрушать их.
Разрушение тоже создает новые очертания, хотя и стремится к бесформенности.
Когда жизнь движется, ей всегда кажется – вперед. В ориентации – оправдание своего существования.
Теряя чувство вины, существа с руками перестают видеть где право, где лево, куда следует двигаться, а куда – больно.
Такова – свобода.
Существа деревьев имеют конус как свое воплощение; его вектор направлен к центру планеты, но всегда разного цвета.
Многие крупные камни скрывают в своем облике предвечный хлеб. Он отравлен злом.
В каждой точке небо превращается в землю, и тогда между ними возникает желто-зеленая прослойка. Видишь?
На солнце есть острова в форме воронок.
Как только появляется огонь, он тут же проникает повсюду.
Облака, словно капли на круглом стекле, и хотя видятся как правильные шестиугольники, в пространственном представлении имеют гораздо больше углов.
Земля везде наклонная, и есть лишь одно государство.
Говорят, что Макс Шейхцер не мог умереть, потому что его спинной мозг был красным.
Но правитель обязан умереть. Sic transit…?
Я проверял мозг Шейхцера, и он был обычным.
Мне нравится вынимать из человеческих тел спинной мозг, пока он теплый, и наматывать его на руку. Жаль, что люди обычно умирают, уже когда я дроблю им позвоночник.
Собакам грустно смотреть на человечью падаль, поэтому они съедают ее.
Таким в тот вечер было пламя сознания, поселившегося в Овраге на краю заснеженной пустоши.
Так звучали его слова в 21:16:
- Я умею любить и умею страдать; не умею винить, но умею прогнать, - сказала ты мне из прошлого. – Не от мира сего я взяла этот крик, я такой рождена – я живу только миг!
Мне на рассвете отчаливать. Я не из слабости, нет!.. Я не хочу опечаливать ваш очень нежный свет. Не посчитайте за гордую: взгляните – не отвернусь. Но не твердите «До скорого!», я не вернусь, не вернусь…
- Прошу, приди, пока не поздно! Не допусти, чтоб свет угас! Я так хочу увидеть звезды в твоих глазах… последний раз. Приди и принеси лекарство, лекарство рук твоих и губ, лекарство глаз твоих прекрасных. …Но где же ты, мой милый друг?!
Мне без тебя – пути нет в жизни. С тобою – тоже нет пути. Я получил свое, мой ангел, мне дальше некуда идти.
Тебе оставлю я подарок – любовь (и в прозе, и в стихах). С собой позволь мне взять на память вкус смерти на твоих губах.
Пусть я смешон, но я хочу страдать! Страдать, но быть с тобой, сгорать в огне, но знать, что будешь помнить обо мне, когда другого будешь целовать…
Я знал, что это случится. Первый и последний раз.
Сполохи счастья приходят лишь вместе с ветром смерти, пронзающим пение сердец.
Хочешь увидеть невиданное, заспанный взгляд бросая в безбрежное?
Посмотри туда, куда другие боятся смотреть.
Экстремальные точки бытия произносятся одним моментом времени.
Белое – всегда либо желтое, либо серое.
Я поцеловал ее, как в первый раз, и, как тогда, на излете лета, меня охватило небывалое удивление.
Другое существо можно осязать!
Самое прекрасное в сознании может иметь цвет, температуру, очертания, вкус и запах, такие же красивые, как и их источник, независимо от их содержания.
Правда, теперь она почти лишилась того оглушающего новизной привкуса горьковатого цветка, который имела при жизни. Но зеленовато-желтые пятна на ее серой истончившейся коже и черные, словно нити обсидиана, прожилки вен были так восхитительны, что мне бесконечно захотелось петь о них всему миру, но я не находил ни слов, ни мелодии.
Ее божественные черты да и весь ее силуэт стали более тонкими, почти неземными. Простота и изящество, делавшие ее такой желанной, конечно, были в ней и раньше, но лишь теперь, после смерти, они расцвели гениальным произведением искусства, превратив ее тело в опустевший хрупкий сосуд совершенной застывшей красоты.
Я лобзал ее полуоткрытые губы, лицо, шею и сомкнутые веки, и сладковатый аромат начинающей разлагаться плоти кружил мне голову.
Она не противилась; ей нравилось дарить себя, хотя она и боялась постоянства.
На горизонте родились облака, и черные тени стальных машин причудливо раскрасили снег. Тяжелые колеса и бронированные гусеницы, скрипя и переговариваясь, крошили мир. Прикрывшись невзрачными телами зевающих солдат, не торопясь, уверенная в своей непобедимости ко мне ползла смерть.
Мы ждали друг друга с тех самых пор, когда я покинул ее, забыв попрощаться. Но она была еще далеко.
Медленно, преодолевая дрожь, я совлек с нее саван и положил у костра беззащитное обнаженное тело.
Мне хотелось только одного: быть с ней, согреть ее, и я лег на нее сверху, накрыв своим пылающим желанием.
Оказывается, я совсем не знал ее, мою любимую вселенную. Забыв о времени, мой взгляд, мои изумленные ладони и губы открывали ее сияющие звездные скопления и чернеющие бездонные глубины, разноголосье миров, прибой космических ветров и плавные изгибы галактик. Я тосковал по ней каждым движением, я восхищался ей каждым мигом дыхания.
Иначе, зачем бы я дышал?!
Этот полет длился целую вечность. А потом, повинуясь какому-то внутреннему приказу, я нежно раздвинул ее стройные послушные ноги и потерял себя в ликовании обретения и возвращения домой…
…Обнявшись, мы лежали у догорающего костра и смотрели в неограниченное звездное небо.
Как далеко были все дороги!
Мне казалось, что я растворился в окружающем молчании ночи, наполнившись неярким светом далеких солнц и спокойствием теней, рассыпавшихся по уснувшему полушарию бело-голубой капли материи.
Потрескивание дров говорило, о чем я думаю, а губы шептали только один цикл слов:
- Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Люблю. Люблю тебя. Я люблю…
Хотя, быть может, это были ее слова, произносимые мной…
А мир уже ждал 1642500000000 пришествия рассвета.
Треск вертолетного винта отделился от костра, завыли, тормозя, бронетранспортеры. На мое лицо упал слепящий луч прожектора, по вздрогнувшей земле ударили первые пулеметные очереди, и я спросил ее:
- Ты когда-нибудь видела утро?
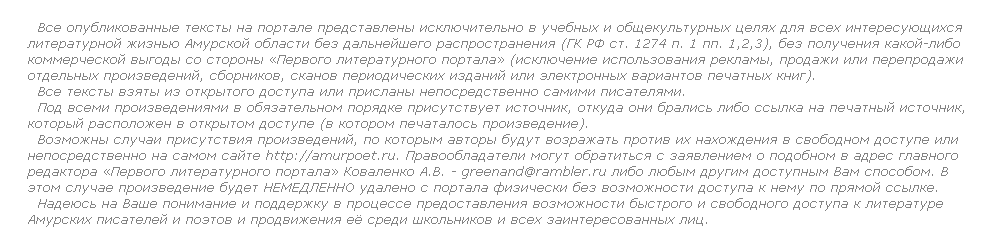
|