Стучать мои лапти
Давно пропали из виду лица друзей и добрых знакомых. Их в первую очередь вымело из его окружения, он не заметил когда. А его самого понесло дальше и дальше по случайным компаниям, неизвестным людям и незнакомым местам. Он не успевал ни кого-то разглядеть, ни чего-то запомнить. В голове его непрестанно долбилась одна и та же фраза из его сольной песни: «Стучать мои лапти…». В минуты просветления он иногда задавался вопросом: «Куда же все-таки они стучат?». Судя по направлению движения, они стучат на восток. Топают сами собой по старому гастрольному маршруту. Но почему именно по этому? Столько было более приятных поездок. Наверно, потому на восток, что страна в эту сторону длинней, народ гостеприимней, поит и кормит запросто так, а насытившись его обществом, передают в следующие столь же радушно распахнутые руки. Так он и движется из города в город, из области в область. Еще перед Уралом его перестали узнавать в лицо, а за Уралом никто уже не связывал его усы, прижатый, как стрелка часов, нос с одним из солистов знаменитейшего ансамбля «Белые росы» Эдуардом Масевичем. Пожалуй, он мог бы поздравить себя – его лапти стучат независимо от былой его славы. Чем-то он привораживает людей: то ли панским обличием, то ли мягким белорусским выговором, то ли умением к месту смолчать и к месту обронить слово, а, может быть, тем, что ни при какой степени опьянения не теряет внешнего достоинства. На сцене так же бывало: только он выдвинется из ряда в своей расписной рубашке, только станет к микрофону, а публика уже заходится от одного его появления. Сейчас его обаяние просто-напросто декорация, за которой ничего уже нет. Вот дотянет он до океана, войдет в соленую воду, она сомкнется над ним и все за него решит.
В Иркутске Масевич попал в литературную богему, где водку мешали со стихами, а стихи с водкой. Эдуард и тут не потерялся, прочел на память белорусский стишок, очаровавший слушателей музыкальностью слога.
Какой-то залетный летчик, ни весть как затесавшийся в богему, сходу влюбился в интеллигентного белоруса и потащил за собой на восток дальше. В компании этого летчика уже не было стихов, а была только водка по-черному в окружении таких же бывших, как Эдуард людей. «Стучать мои лапти…». Или уже достучали? Какая, други, разница, где тонуть – в океане иль в водке?».
После нескольких дней сплошной пьянки летчик куда-то слинял, оставив Масевича одного в квартире. Первым делом Эдуард отоспался, продрыхнув восемнадцать часов кряду, и проснулся как ребенок с легким сердцем и необремененной памятью. Он беспечно и беспечально понежился, радуясь покойной минуте, но тут раздался дверной звонок, оборвавший его приятное сибаритство. С тем же легким сердцем из спальни через залу Эдуард пошлепал открывать.
За дверью стояла молодая женщина, невысокая, пухленькая, со скромной миловидностью, и со стеснительностью в глазах. С такой же стеснительной насмеленностью когда-то подходили к нему за автографом робкие поклонницы. Для Эдуарда на миг перепуталось время, но он опомнился.
- Вы к хозяину? Его нет дома.
- Я к вам, - отвечала женщина, преданно глядя на него серо-зелеными глазами.
Масевич в удивлении отступил, впуская гостью в прихожую, но, сообразив, что принимает ее неодетым, сконфуженно провел женщину в комнату, где царил беспорядок многодневной мужской пьянки, усадил пришедшую в кресло и, извинившись, поспешно сбежал в спальню. Но, когда он захотел одеться, ему предъявила права присущая Масевичу чистоплотность, потребовшая от него полного туалета. Решив, что женщина подождет, он держа одежду в руках, с извинением проскочил мимо гостьи в ванную комнату. Обмывшись под душем, он сообразил, что забыл прихватить с собой бритвенные принадлежности и другие предметы ухода. Мысленно чертыхнувшись и снова извинившись, он еще раз проскочил мимо гостьи, заметив по ходу, что женщина колобком съежилась в кресле. «Что-то у нее ко мне не то, слишком стесняется. Либо денег попросит, либо внимания. Надо было не впускать».
Несмотря на дурные предчувствия, Масевич выправил себя по всей форме: уложил волосы так, чтобы они прикрывали лысеющую макушку, разобрал усы, придав им нужную конфигурацию, овеялся душистой водою, потер щеткой когда-то элегантный костюм и, в конечном итоге, преобразил себя так, словно ничего общего не имел с образом жизни последнего времени.
- Я слушаю вас, - с достоинством и степенством предстал он перед гостьей.
Женщина взволнованно вскочила, точно пугливая подчиненная, застигнутая врасплох строгим начальством.
- Можно, я не сразу скажу, зачем пришла? – взмолилась она.
- Не сразу так не сразу, - согласился он и, чтобы не смущать ее, прошелся по комнате, на ходу отодвинув к стенке загромождавший середину стол со следами холостяцкой пирушки.
- Тут грязно… Можно я приберу? – услышал он за собой.
- Вы здесь прибираетесь? – объясняя этим ее приход, обернулся он к ней.
- Нет, что вы, я первый раз в этой квартире! – запротестовала она. – Просто вижу, что надо убраться. Вы не бойтесь, я не развезу, я быстро это делаю.
- Не надо, отказал он. – Не вы здесь грязнили.
В ожидании подлинного разговора Масевич обернулся к окну, рассматривая, что за ним есть. Далеко впереди, по линии горизонта, тянулась чернильная гряда приземистых сопок. К ним вольно тянулось пустынное пространство с вкраплинами небольших перелесков. Сразу под окном лежал неприютный, продуваемый ветром двор с голыми тополями, сердито пошевеливавшими ветвями, стандартными многоквартирными постройками из белого кирпича и крупной панели. Двор с окружавшими его полями и дальними сопками дрог и смурнел в ознобе холодного весеннего дня. «Апрель, 1987 год», напомнил он себе. – «Интересно, какое сегодня число? Близко к маю или не очень? По погоде этого не определишь». Он вдруг осознал, что понятия не имеет, где находится и куда теперь его занесло.
- Что там? – полуобернувшись к женщине. Указал он кивком за окно.
Она не сразу поняла, о чем он спрашивает, но, догадавшись, охотно сообщила:
- Аэропорт, жилой поселок.
- А город какой?
- Благовещенск.
«Благовещенск», - что-то отозвалось в его памяти, но никакого образа не возникло.
- Большой город или средний? – поинтересовался он.
- Средний, - сказала женщина.
«Вот, почему мне о нем неизвестно», - мысленно обосновал он свою неосведомленность.
Поворачиваясь к женщине, Эдуард отметил ее полногрудость. Крутую выпуклость обтягивает выступающая из распахнутой куртки коричневая блузка в пестрых ромашках с неестественно вытянутыми лепестками. Эта рябь неприятно резанула глаза и поэтому, спрашивая, он больше не оборачивался.
- До океана далеко?
- До Владивостока?
- Ну, до Владивостока…
- Два часа самолетом, а поездом около трех суток.
«Скоро уже», - сказал себе Масевич, размышляя, как отсюда выбираться. «Летчик, может быть, устроит его на самолет.…А где он летчик и когда появится? Долго ему еще торчать в этом убогом поселке? Тут скучно и необжито, будто не оседлое место, а перевалочный пункт. Дома как брошены небрежной рукой, так ничьими стараниями не взлелеяны. В его родных краях так неустроенно не живут. Каждое гнездо себя укореняет, так как селится навсегда. А тут дунь покрепче ветер, и следа от человеческого пребывания не останется.
- Временный что ли поселок? – спросил он.
- Почему временный? – отозвалась сзади женщина. – По целой жизни тут люди живут, и дети потом продолжают.
- И хорошо тут жить? – лениво поинтересовался он.
- Хорошо, когда все имеешь, - вздохнула женщина.
- А вы имеете? – непроизвольно оглянулся он и сразу наткнулся на рябь блузки.
- Если бы я все имела, я бы к вам не пришла, - непроизвольно произнесла женщина, и, поняв, что проговорилась, принялась исправлять положение: - Понимаете, у нас тут вроде как ворота города, а поселок непроточный. Все на своих местах – ни поднять, ни сдвинуть. Общежитие есть, но все холостые там переженились. Если у кого судьба сразу не сложилась, тому вроде и ждать нечего. Я с такой несправедливостью несогласная. Раз есть жизнь, то должна быть к ней и судьба. Надо не стесняться искать. Вы, как я поняла человек одинокий, ничейный. Холостяковать вам уже не по летам. Я тоже одинока. С мужем развелась, сыночка рощу. Не желаете соединить наши жизни в одну судьбу? – неожиданно заключила она.
Масевича как кувалдой по затылку хватило. С панским высокомерием глянул он на самозваную претендентку. Стрелка носа его заострилась, ноздри узорно выписались, усы вспучились, темно-карие, густой окраски глаза плеснули презрением. Весь его облик говорил о недоступном величии, недостижимо далеком для рядовой провинциалки. На женщину его преображение не возымело действия. Она видела в нем просто мужчину и ждала его мужских слов. Масевич, избегавший резких высказываний, ответил хоть и с явной холодностью, но вежливо:
- Насколько я знаю, люди сходятся по любви.
- По любви, - кивком согласилась женщина, - а еще по согласию и здравому разумению. Для нас с вами больше подходит здравое разумение.
- Какое же здравое, когда мы друг друга впервые видим, - колко заметил он.
- Я вас уже видела, - сказала женщина. – Вы с нашими мужиками в магазин ходили.
- Я ходил? – Масевич этого не помнил. Хорош, значит, был.
- В таком случае для вас не секрет, что я собой представляю, - сухо обронил он.
- Но вы не то, что они, вы не пропащий! – горячо вступилась женщина.
- Я умею держаться, - объяснил он.
- Не в том дело, - пояснила женщина.- Вы не пропащий. Вы, наверно, сами этого не знаете. Я думаю, вы без лечения, одной волею на ноги встанете.
«Стучать мои лапти!..», - пробилось у него внутри. Он изучающе оглядел женщину, не отлавливает ли она его хитростью.
- Если я не знаю, вам-то откуда известно.
- Я знаю, как пропадают. На моих глазах муж сокрушился. Во дворе столько мужиков загубилось.… Да вот, вашего хозяина взять… Он пока держится, но уже конченый человек. Ничем его теперь не подымешь. Вы вовсе не то.
- Просто это не моя компания, - пояснил он.
- Да ну, - отмахнулась она. – У всех пьющих одна компания. Разница в том, что есть пропащие и есть обрушенные. Вы обрушенный.
- Что значит обрушенный?
- Обрушенный – это человек по обиде упавший. Я правильно говорю, ведь по обиде, да? – женщина подождала его подтверждения и, не получив, се равно осталась при своем мнении. – С обидою справиться можно. Выпихнуть ее из себя и двери захлопнуть. Обиды не станет – захочется жить. Может, таким важным, как раньше, не станете, но человеку поменьше значением тоже жизнь не заказана.
- И черви живут, - усмехнулся он.
- Значит, я угадала, через гордыню вы себя изнуряете, - заметила женщина.
- Да, с чего вы такая мудрая? – обозлился он.
- А с того, что женского счастья мне хочется.
- Что же вы мужа не уберегли?
- Я молоденькая была, не понимала того, а он сразу, как топор, на дно пошел.
- Сколько же вам сейчас лет?
- Двадцать пять.
- Мне тридцать семь. Неувязочка по годам.
- Как смотреть, - возразила женщина. – Определившийся человек в любом возрасте серьезней неопределившегося.
- Я, по-вашему, неопределившийся? – оскорбился Масевич.
- Вы о себе не по прежнему, а по нынешнему судите, - не пожалела его самолюбия женщина.
- Ну, а чем таким вы в своей жизни определились? – угрюмо поинтересовался он.
Женщина ерзнула в кресле, довольная вопросом.
- Я на хорошем месте работаю – в отделе перевозок. Пассажиров на самолет регистрирую. Квартира у меня двухкомнатная, как эта, только поухоженней. Дача есть, домик деревянный – папа строил. Овощи свои. С надежным человеком я бы хозяйство держала – кур, поросенка, может, корову, пчел бы развели. Сынишка мой не помешает. Ему пять лет. Он у меня послушный, привязчивый.
- И это все, чем у вас тут определяются? – насмешливостью горожанина свел он на нет ее достижения.
Сконфузившись, женщина добавила:
- Кому по средствам, тот машину покупает, гараж с погребом строит.
- Гараж с погребом, надо понимать, вершина фантазии, - фыркнул он, презирая не здешних людей, а себя, что среди них оказался.
Гостья же обиделась и внутренне против его слов уперлась. Эдуарду она показалась, как снеговик, составленной из шаров: шар – голова с пухлыми щеками, шар – подобравшееся тело, даже коленки выступали из-под узкой юбки тугими, укоряющими мячиками. И так же с укором она сказала:
- Мы люди простые, не так много нам надо, еще меньше нам отпускается. Свои возможности мы знаем и стараемся выбрать из них все, что удастся. За что же нас осуждать? За то, что на чужое не заримся?
Масевич усмехнулся, представляя, как свои необыкновенные возможности он, точно песок, пропустил между пальцев и через всю страну бежит топиться. Кто он в глазах этой женщины? Промотавшийся человек, бродяга и пьяница? К океану он придет бездомным, никому неизвестным скитальцем, отвергнувшим всех и всеми отвергнутым. Никого его смерть не удивит, не потрясет, ни у кого не вызовет жалости. Он опоздал со смертью. Умирать надо было артистом, когда его любили прекрасные женщины, чтили друзья, уважали неверные покровители, боготворили поклонники. Тогда бы о нем пожалели. В смерти же бродяги ни грамма чести, ни в грош цены. Неужели ему не по силам достойно расстаться с жизнью? И неужели ему не по силам стартовать еще раз? Отчего бы не взлететь с той самой позиции, в которой он сейчас оказался? И отчего бы не опереться на эту самую женщину, которая подает надежду и руку? Он ведь любимчик судьбы. С его-то способностями и обаянием, умением воздействовать на людей и знанием иных масштабов идеал гаража с погребом он преодолеет и заодно здешним жителям покажет, какие бывают горизонты и как можно их раздвигать. У себя на родине гордость бы не позволила показать себя в низшем, чем прежде, качестве. Здесь его никто не знает, никто не будет сравнивать, а он не постесняется подниматься со дна. Эх, «стучать мои лапти!..».
Масевич пристрастно оглядел возможную спутницу. Грудаста, бедраста, лицо не лишено приятности, но не они главные в ее облике. Главное в нем крутая и крепкая стать, пригодная для тяжелых нагрузок и детородства. Безвкусную блузку можно переменить, а вот коротковатые, железные в ляжках ноги придется принять как данность. Никакая гимнастика их не вытянет и стройности не придаст. По местным потребностям женщина кроена, чтоб когда надо поперла, а когда надо, подперла. На украшение жизни она не заряжена, и это тоже надо принять.
- Как вас зовут? – спросил он, пуская в ход прирожденное обаяние. Его карие, в узких разрезах глаза точно струили нежность и ласку, отчего гостья так и растаяла.
- Вика, - с придыханием произнесла она.
«Чечевица с викою, а я сижу с чувихою», насмешливо отдалось в нем, но подавив смешок, он серьезно представился:
- А я Эдуард, Эдуард Иванович Масевич, из Белоруссии.
Помолчав, он продолжил:
- Был дважды женат, имею двух дочерей. В настоящее время от обоих браков свободен, могу собою располагать, но, кроме дорожной сумки, имущества со мной никакого.
Перед решающим словом у Масевича перехватило дух. Когда во время сольного выхода такое случалось на сцене, он встряхивал себя тем, что бросал в публику первое, пришедшее на ум откровение. Зал взревал и под его вопль он начинал свой коронный номер: «Стучать мои лапти…». Сейчас его единственная слушательница в ожидании откровения тянулась к нему из кресла, и, «стучать мои лапти», он себя переломил.
- Я готов сойтись с вами, во всяком случае, попробовать, насколько у нас получится. Имущественную разницу обещаю наверстать, выпивку ограничу, вашего сына не обижу, помогу воспитать. Если вы мне родите сына, я его выращу. – Говорил он бормотком, немного в нос и, как будто, даже не ей. Впитывая его слова, она тянулась к нему, тянулась и никак не могла дотянуться. А он продолжал: - Любви, как чувства, я вам не обещаю. С этим у нас будет скромно.
- Зачем вы так, Эдуард Иванович! – не выдержав, соскочила она с кресла и пошла к нему. – Почему не хотите любить? С моей стороны препятствий для чувства не будет. Я уже вас люблю!
- Больно скоро для здравого разумения, - напомнил он. Но женщина уже обнимала и целовала его, и он ее ласку принял.
- Идем ко мне, - позвала она. – Я припасла бутылку и сварила обед. Но сперва я скоренько тут приберусь, чтоб насовсем тебя вымыть отсюда.
- Я помогу, - сказал он, делая свой шаг навстречу.
Молодая женщина, принявшая к себе незнакомого мужчину, не предполагала, что таким образом она как бы села в скорый поезд, который все, убыстряя и убыстряя ход, понес ее в неизвестность. Через несколько дней после поселения у Вики, Эдуард сумел по цепочке новых знакомств выйти на начальника авиапредприятия, в неофициальной обстановке произвести на него впечатление, а затем, придя на официальную встречу, заинтересовать в себе, как в способном работнике, и быть принятым им в службу материально-технического снабжения. С мелкой должности рядового снабженца и с помощью обстоятельств, будто нарочно мостивших ему дорогу к успеху, он и пошел на разбег. То ли на самом деле ему были открыты иные масштабы, то ли помогал опыт однажды уже завоеванной жизни, то ли умел он нащупать единственный верный ход, но все затеваемое им сходилось, как он того хотел. С людьми он ладил, ни в какой обстановке не терялся, однажды установленные им связи срабатывали безотказно. Сам он при том оставался спокойным, уверенным в себе, держался представительно, обвораживал обхождением, дружелюбием, обвораживая тем самых несговорчивых партнеров.
Семейная жизнь у них с Викой шла по тем же самым правилам. Он не обманул ее ни в одном из данных ей обещаний. В семью он принес достаток. Выпивать, с целью напиться, перестал, несмотря на то, что в работе ему приходилось устраивать и участвовать в застольях. Но он умел отвести глаза от своей невыпитой рюмки, умудряясь всю вечеринку держать ее наполненной и ни разу не опорожнить. Викин сынишка Андрей привязался к нему как к родному отцу, и Эдуард заботливо и ненавязчиво его наставлял. Когда Вика родила ему сына Сережу, он расписался с ней, поставив семью на законную основу. Вика могла быть счастлива, если б не замечала, что с любовью у него к ней негусто. Сама же она как девчонка любила его без памяти, страдала и грезила о взаимности. Своей сдержанностью он подавлял проявление ее чувства к нему, обостряя тем самым ее ревность и подозрительность. Она нутром угадывала, что ему тесно около нее, что он хотя бы плечом желал бы раздвинуть простор. В ней ли дело или это тоска по прежним женам, особенно по второй, которую, по его признанию, прежде безумно любил. Каждый раз, когда он улетал в командировку, а улетал он часто, она боялась, что он не вернется. Он возвращался, и она говорила себе, что он вернулся к Сереженьке, и была ему благодарна сыну за то, что он удерживает возле нее мужа.
А как ее муж может любить, она догадывалась по его отношению к Сереже. С ним он отбрасывал обычную для себя сдержанность и открывался ребенку до самого донышка. С ним он смеялся, затевал возню, разговаривал с ним по-белорусски. Сам при этом сиял и был порывист как солнечный вихрь. Вика представляла, каким он бывал с любимой женщиной, и понимала, как много она от него не дополучает. Ее обижало, что он не делит с ней любовь к сыну, а целиком забирает своею любовью ребенка. Но, видя, как он здесь одинок, уступала ему сына. Эдуард уводил Сережу в лес или поле, а чаще всего в сад, где за плотным забором и густыми деревьями, вдали от посторонних глаз пел ему песни своей родины. И среди них чаще всего одну, со словами «стучать мои лапти…». Вика заметила, что эта песня была для него как нерв, как душевная струна. В ней отдавалось для него все, что было дорого ему и любимо. Заслышав знакомый мотив, Вика замирала, иногда даже всплакивала, потому что под эту песню начинала мучиться и страдать ее собственная душа.
Как-то подойдя к калитке сада, она уловила, как в разливное пение ее мужа вкрапляется робкий и прерывистый голосок трехлетнего Сережи. Сердце ее, как тисками, сдавило.
- Что, плохо тебе? – посочувствовала проходившая мимо соседка. – И то, так поют, аж душу с корнем вытаскивают.
Вика не слышала чужих слов. Припав к заборному столбу и закрыв глаза, она беззвучно пела вместе с семьею:
Стучать мои лапти
Як иду до тэбе…
Однажды, этим же летом, Эдуард пришел домой загадочно просветленный и еще более порывистый, чем когда возился с Сережей. Вика встретила мужа, как у них было заведено, ровно и сдержанно, но сердцем встревожилась. Он что-то держал про себя явно для него хорошее, а для нее неизвестно какое. В ожидании, что будет, она последовала за ним в комнату. Он остановился посреди залы, оглядывая ее так, будто не жил здесь несколько лет, а впервые только увидел.
- Тесновато у нас, правда? – проронил он, переводя взгляд на Вику. Она пожала плечами, не зная, что ответить. Он улыбнулся на неопределенность ее жеста, вынул из принесенной папки свернутый в несколько раз тонкий лист, развернул его на столе в полотнище и подозвал к себе Вику.
- Виктория, посмотри на наш дом.
Вика наклонилась над листом, рассмотрела рисунок целого дома, а затем отдельных его частей и недоуменно спросила:
- Это наш дом? А где он?
- Пока что на чертеже.
Вика припомнила ходившие по поселку слухи о коттеджном товариществе, затеваемом на пустыре возле автомобильной трассы. В смысл разговоров Вика не вникала в суть разговоров, так как считала, что эти дела их с Эдиком не коснутся. А он, выходит, тоже в строительство записался.
- С теснотой, наконец, мы покончим, - блаженно пощипывал он усы.
Вика любила свою квартиру в две проходных комнаты. Ее радовало, как удачно ее семья в них разместилась: мальчики в спальне, а они с мужем в спальне. Кухня и ванна с совмещенным туалетом были, конечно, тесноваты, но вокруг все так жили.
- Гараж мы загоним под дом, - объяснял Эдуард. – Вверху будут четыре комнаты, закрытая веранда и терраска с крылечком. Тебя это устраивает?
Все, что говорил Эдик, было представлено на чертежах, но Вика не видела за ними живого дома.
- Четыре комнаты и веранда? Зачем так много? – испугалась она.
- Ну, что ты, Виктория, я самый скромный проект выбрал. Рядом с нами станут дворцы, - ласково успокоил он.
- Да хоть и скромный…, откуда же он возьмется? – не верила Вика.
- Предоставь это мне, - важно сказал он. – Настоящий белорус должен сам для семьи дом построить.
- Ты будешь строить? – невольно вырвалось у нее. В огороде он ей помогал, но когда надо было поднять забор или починить в садовом домике, он нанимал мужиков.
- Виктория, дорогая, не все делается своими руками. Жизнь давно уже идет по правилу «все своими деньгами». А я действую по убеждению «все своей головой». Будет у нас с тобой дом, будет, - я тебе обещаю, - убеждал он.
А что ее убеждать? Ей, поселковой женщине, к земным заботам как цепями прикрученной, на какой скорости не лети, она все равно останется посреди своих земных забот и скорости не заметит. Другое дело Эдуард, он чужедальний, к месту не приросший, его несет и несет. Не к тому ли дом затевает, чтобы дальше не убежать? «Миленький, ты и меня в уме держишь, а, может, и в сердце?», - всколыхнулось в ней.
Эдуард позвал сыновей, велел каждому выбирать по комнате и сам не хуже мальчишек включился в игру.
- А ну-ка, сынок, подхвати, - наказал он Сереже и сразу же затянул:
Стучать мои лапти
Як иду до тэбе…
Сережа приковался взглядом к отцу и тоже врос в песню. Эдуард дал ей веселый полет, и она налилась радостью. Вику поразило, что муж не прячет от нее песню, а делится с нею, как главным своим сокровищем. Вике показалось, что от такого счастья она тоже растет.
Эдуард то ли заметил в ней перемену, то ли от полноты чувства ему не хватило одной песни, он встал в полный рост, провел по вихрам попавшегося под руку Андрюшку и, озорно глядя на Вику, пошел к ней, взвивая голос:
Ганулька, Ганулька,
Парень зажурыл…
Она гибко выгнулась под его взглядом, ощущая, как тугой силой наливается ее тело, подняла локти и лебедью поплыла в объятья мужа.
Эдуард погнал строительство с такой скоростью, словно дом ему был нужен сию секунду. В короткий срок он оформил ссуду и, развернув таланты снабженца, повез на вытянутый по жребию участок кирпич, цемент, панели, блоки, оконные и дверные рамы, доски, железо, сгружая все это в специально построенный деревянный сарай. А когда он наполнился до краев, подтащил к нему металлический гараж. Даже садовый домик до отказа забили. Зато Эдуард успел затовариться до повышения цен на строительные материалы, обошедшиеся ему, в общем, дешево. До холодов он экскаватором выкопал котлован, и нанятая бригада бетонщиков заложила фундамент. Уже по снегу он пригнал во двор раздобытый годе-то строительный вагончик. На этом деньги по ссуде кончились. Масевич мог поздравить себя с удачным приобретением, на которое он не извел ни одной лишней копейки.
Зимой стройка стала. Эдуард от лица авиапредприятия, вел бартерные операции на китайском берегу ради изыскания средств для выплаты сотрудникам задерживаемой зарплаты. Он сопровождал обменные потоки туда и обратно, и далее по воздуху доставлял грузы в другие концы страны, успевая обеспечивать интересы не только своего предприятия, но и других клиентов. Вика видела мужа в редкие дни, но страху, что он не вернется, у нее уже не было. Она знала, что он добывает деньги на стройку. Что-то он накрутил за зиму, что-то взял в долг под дальнейшие обороты и весной привез с родины бригаду земляков-строителей.
Белорусы были длиннолицы, вислоусы, молчаливо печальны и простодушны. Смотрели на мир ласковыми глазами и были незатейливы в привычках. Поселились они в вагончике. Вику Эдуард подрядил варить им еду. Для этого под навесом соорудили печурку, сколотили дощатый стол.
Вике пришлось уйти с работы, и все равно она разрывалась между домом и огородом. Хорошо еще, что семья приохотилась питаться под навесом, а то б две стряпни ей не вынести. Дети пропадали на стройке. Сережа научился говорить по-белорусски, бульбаши его полюбили. Эдуард свои приезды тоже проводил на стройке. Белорусы работали весь световой день, и дом рос.
Деньги в тот год быстро пустели, их называли деревянными. Летая в центр, Эдуард завозил зарплату строителей их семьям, чтобы заработанное земляками не успевало обесцениться. Меланхоличные белорусы мерно клали кирпич, в перерывах неспешно ели под навесом, по вечерам молчаливо и празднично рассаживались по двору отдыхать и во все время суток оставались безмятежны и словно бы отгорожены и от того, что делали сами, и от того, что их окружало. С отвлеченным видом брали они кирпич, с отвлеченным видом плескали раствор, отвлеченно водили ложкой в тарелке, но аппетит и работа от их глубокой задумчивости не страдали. Вика не придавала значения ни странностям их поведения, ни унылости выражения на их лицах. Так же самое она стала держать себя и по отношению к мужу. Ей сделалось много легче с ним, а ему, должно быть, с нею.
Среди белорусов был не родственник, не то друг Эдуарда. Звали его Виталий Жовнерчик. Все называли его Витасем, но чаще по фамилии только, что было еще удобней. Он редко, когда выходил из состояния самоуглубленности, будто с детства был зачарован чем-то таким, что виделось ему внутри себя, и что было для него интереснее всего на свете. Но когда его ясные серые глаза останавливались на Вике, то будто видели насквозь ее неуверенную в ответном чувстве и благоговейную любовь к Эдику, жалели ее и были благодарны ей за эту любовь. Вика тоже отличала Жовнерчика за его любовь к Эдику, которая была неотъемлема от него, как дыхание. Витась и Вика, поняв в друг друге истинное, душевно сблизились. Остальные белорусы были ей дальше. Они уважали ее как хозяйку, то есть жену хозяина, и как повариху – это уже независимо от хозяина. Даже Эдуард, когда обедал вместе со строителями, видел, что они довольны и сыты, на котлопункте порядок, смотрел на жену с уважением, отчего она рдела и наливалась яблоком. Пообедав, строители уходили наращивать стены, и уже Вика смотрела на них с уважением и всех вместе любила. В такие минуты она забывала, что дом строится для нее. Ей казалось, что она на работе, среди людей, и, так же, как и они, вовлечена в общее дело. Видимо, скучала по своей службе перевозок.
Между тем, стены были воздвигнуты на нужную высоту, над ними воздвигли крышу. Жовнерчик забрался по лестнице, и на фасаде дома, кистью по белому кирпичу сначала тонко вывел, а затем и затушевал красный цветок, словно вынутый им из орнамента своей рубашки. Пока он рисовал, белорусы молча стояли внизу и смотрели, как он делает. Вика тоже вышла из-под навеса и наблюдала за работой.
- Белорусский мотив, - спустившись, сказал Витась.
- Белорусский мотив, - повторили следом белорусы.
Эдик, приехав, долго глядел на цветок и тоже, должно быть, принял его за знак родины. Интересно, пропелось ли в его душе «стучать мои лапти»? Внешне это никак нельзя было определить, а сам Эдик молчал.
Закончив наружные работы, белорусы перебрались в дом дл внутренних работ. С приходом осенних заморозков и Вика с кастрюлями туда въехала, орудуя в отделанной уже кухне. Но теперь она готовила только обеды. Андрейку надо было собирать в школу, Сережу отправлять в садик. Дела хватало на старой квартире.
Отделав дом изнутри, белорусы из оставшегося материала взялись лепить надворные постройки, затеянные почему-то Жовнерчиком, тянули забор.
Дни делались все короче, белорусы шевелились все медленней, успевали все меньше, словно впадали в спячку. Наконец, настал день, когда они отложили инструменты и сели за стол бражничать. Гуляли, как и работали, молчаливо, каждый углубившись в себя. Но кружки сдвигали враз, как по команде, и так же враз их опустошали. Иногда под влиянием тоже враз зародившегося в них чувства, они начинали петь что-то заунывное, протяжное, древнее, будто овевали новый дом старинными легендами. Еще реже выходили они плясать. Длинноногие, тяжелые, они неуклюже топтались. Эдик, когда сидел с ними, делал то же, что и они. Ни одну из своих песен он ни разу не вспомнил и не запел, а они его об этом и не попросили.
Вика уходила и приходила, а они все пили, пели и топтались на месте. Вика почти перестала для них готовить. Горячего они не ели. Клюнут закуски и пьют дальше. Так сидели они целую неделю, до рокового события декабря. Когда пришло известие об отделении Белоруссии от России, бульбаши враз протрезвели, поднялись из-за стола и начали собираться.
- Так мы же, сябры, за границей! – сокрушенно вздыхали они по своей заснеженной и затерянной в лесах Белой Руси.
- Вон, как повернуло, - сокрушался Жовнерчик. – В разные страны попали. Может, нас и пускать друг к другу не будут? Ты, Эдусь, не журись, я-то тебя не покину. Только кликни, и я через все кордоны прорвусь.
Побросав в костер старую робу и надев новую, еще с весны заготовленную Эдуардом, заложив под рубаху топорик, так как ходили слухи, что в поездах балуют, строители были готовы в путь. Отправлял их Масевич по железной дороге, так тяжело они были загружены китайским тряпьем. Везли с собой расписные одеяла, пуховики, кожаные куртки и другой товар, наменянный Эдуардом на той стороне. Все это пойдет дома в продажу и обернется дополнительным заработком. Автомобильный кузов закидали доверху. Прощались трогательно, со слезами. У Эдуарда тоже глаза были на мокром месте, будто прощался с родиной. У Вики екнуло сердце, а что, если муж рванет следом за земляками? Чувствуя настроение друга, Жовнерчик поклялся вернуться. Вика всех уезжающих по очереди перецеловала, а когда белорусы уехали, долго не могла избавиться от ощущения пустоты.
После Нового года Эдуард перевез семью в построенный дом. Они стали первыми новоселами в коттеджном поселке. Со двора и из окон Вика видела белую пустыню с выступающими из-под снега остовами заброшенных на зиму кирпичных кладок. И ни единой души не усмотришь за день на широком пространстве. Только трасса за тополями шумела несущейся мимо жизнью.
Вика металась в казавшемся ей огромном доме. Эдика иногда не бывало по целой неделе. Андрейка с раннего утра убегал в школу. После обеда Вика высматривала в просветах между тополями его скорченную на морозе фигурку и переживала, как много лишнего пути ему приходится теперь делать.
Чтобы совсем не оставаться одной, Сережу в садик она не водила. Дни коротали вместе. Иногда со скуки пробовали запеть Эдуардову песню про лапти, но сбивались со слов и Сережа без уверенного ведения капризничал:
- Мам, не пой, ты не знаешь.
У Эдуарда в это время шла совсем другая, кипучая и интересная жизнь. Из материнского авиапредприятия выделилось дочернее образование с коммерческим уклоном. Эдуарда взяли в него за деловые качества. Он летал с чартерными рейсами за границу, возил товары из Сеула, Токио, Анкары, помогая начальству сколачивать стартовый капитал и не забывая о своих интересах. Когда через два года дочернее предприятие, вытянув соки из материнского, благополучно прогорело, Эдуард уже был связан делами в крепкой коммерческой структуре, размещавшейся в городе. Сережу отдали учиться в музыкальную школу, Андрея перевели в гимназию, семья жила в трехкомнатной городской квартире. Для этого была продана старая Викина квартира, сад с домиком и добавлены накопленные деньги. В загородном коттедже хозяйничал Жовнерчик, то ли сам приехавший, то ли вызванный Эдуардом.
Скоростной поезд, в который когда-то села Вика летел все быстрее, но она этого не замечала, потому что не смотрела в окно.
Раз в неделю Вика ездила в коттедж убираться. Она добиралась туда автобусом и выходила в авиагородке, где ее многие знали. Пока она в долгополой шубе и меховой шляпке просекала аэропортовский поселок насквозь, с ней почти каждый встречный здоровался. С некоторыми она останавливалась поболтать. В городе у нее такого близкого и теплого общения не было. Здесь ее почитали за жизненную удачу. Затем она шла к коттеджам, открывала калитку и, с удовольствием вслушиваясь в звуки Витасева хозяйства, двигалась к дому. Заливалась лаем собака, всхрапывала в стойле лошадь, могла блейнуть коза, прогоготать гусь, всхрюкнуть поросенок. На сигнал собаки откуда-нибудь из построек выходил Жовнерчик. Он превратил дом со двором в настоящую усадьбу и блаженствовал среди многочисленной живности. Глядя на него, Вике хотелось тоже хозяйничать, но на ней была городская квартира и уход за семьей. Летом, когда они переезжали в коттедж, она Витасю помогала. Эдуард был снабженцем при Витасевых хозяйственных затеях. Но как деловой человек, наперед просчитывал их доходность и иной раз отказывал другу. Жовнерчик расстраивался и следом придумывал что-нибудь новое. Он уговорил Эдуарда купить кобылу, сделал для нее упряжь, сбил телегу, починил раздобытую Эдуардом коляску, соорудил коптильню, сделал теплицу, собирался весной копать для гусей водоем, а еще разводить в нем рыбу. Руки его постоянно были в работе.
Навестив Жовнерчиково хозяйство, Вика принималась за уборку. Включала пылесос, включала стиральный автомат, перестирывая все, что нужно было стирать, в том числе и Жовнерчиково белье. Он в это время готовил обед. После всех дел они садились за стол и заинтересованно беседовали.
- Что ж ты жену не везешь, любопытствовала Вика.
- Пусть она там меня ждет, а я здесь о ней поскучаю, - невозмутимо отвечал белорус.
- И Эдик такой же, - вздыхала Вика. – Вроде бы тут, рядом, а присмотришься, далеко- далеко, за синим морем.
- Наш народ самостоятельный, - поглаживал усы бульбаш.
- А любить-то вы любите? – сомневалась Вика.
- Как же, заботимся, - ронял белорус и больше не прибавлял ни слова, считая ответ исчерпанным.
Вика знала, что у Витася двое детей: замужняя дочка с внучкою и сын-студент. Жена Витася на фотографии в цветастом платке, сложно устроенном на голове и в бусах. «Панна моя» - хвалился он и продолжал жить в отдалении. «Он так привык», - отвечал Эдик, когда она пыталась расспросить мужа.
- О прежней жене Эдик не только заботился, но и любил, сворачивала разговор на самое больное для себя Вика.
- Любил, - скупо подтверждал Витась.
- А ты ее любил? – спрашивала Вика, пытаясь по его отношению определить меру Эдиковой любви.
- И я любил, пока беды от нее не увидел, - неохотно признавал белорус.
- За что же вы ее любили? – не отставала Вика.
- Так она же раскрасавицею была, - будто все еще в восхищении вздымал брови Жовнерчик.
- Ах, за это,… - падала духом Вика.
- Да, ты не горюй, - ободрял Витась. – Красота в ней была, а милоты не было. Загубила она Эдуся. Пропал человек, и нигде его нету. Ищу, спрашиваю, может, кто видел, может, кто слышал. Никто не видел, никто не слышал. Сколько товарищей у него было, сколько знакомых, сколько больших людей с ним дружбу водило, - не ищут его, не беспокоятся, будто такому и быть. Осердился я, думаю: «не быть такому! Не тот Эдусь человек, чтоб без следа сгинуть. Так иль не так, а весточку о себе подаст». Жду, надеюсь – и он приезжает. Говорит, на дальнем Востоке осел, женщина есть и ребеночек будет. Сереженька у вас тогда еще не родился. Чую, на ногах крепко стоит, но все-таки мне за него боязно. «Давай, говорю, я с тобой на Дальний Восток поеду, рядышком буду». «Подожди, говорит, я сам тебя позову». Эдусь зря не скажет.
Жовнерчик сощурил один глаз, а другой хитро уставил на Вику.
- Не пропал дружок мой. В другой раз взошел. Ты, вот, в чем есть, его приняла, сейчас панной живешь. Красавица чуть только споткнулся, его оттолкнула – сейчас локти кусает. Что имела, не сохранила, а нового не прибавилось.
- Как думаешь, Эдик к ней не вернется? – встревожилась Вика.
- Эдусь такой человек, что обид не прощает. Смотри, сама его не обидь, - предостерег Жовнерчик.
Как-то Вика его спросила, знает ли он песню 2Стучать мои лапти».
- Наша песня, Эдусь поет, - как о чем-то безусловном сказал Витась.
- Давно уже не поет, - посетовала Вика.
- Плохо делает, - огорчился белорус. Родную песню забыть, все равно что забыть родину.
- Научи меня ей, Виталик, я когда-нибудь Эдику ее напомню.
- Это можно, - довольно сказал белорус и, поправив усы, тут же начал урок.
Наговорившись и напевшись, Вика собиралась домой. Витась запрягал кобылу в высокую коляску и вез хозяйку к остановке в аэропортовский поселок. В теплой шубе ей было не холодно. С одного боку коляски бежала вереница опушенных инеем тополей, с другого – светились огни аэропорта. В черном небе махрово и пышно цвели звезды. Копыта Витасевой лошадки звонко цокали по заледенелому асфальту, колеса повозки в такт им поскрипывали, отдаваясь в голове Вики словами: «Стучать мои лапти…». При этом ей казалось, что она, в самом деле, слышит звучанье своих шагов по жизни.
Однажды Эдуард, приехав за женой, встретил коляску на дороге. Сидевшие в ней смотрелись тесною парочкой, как два воробышка на карнизе.
- Дружно глядитесь! – высунувшись из машины, крикнул в мороз Масевич.
- Да, мы с Викою дружно, - натягивая поводья, подтвердил Жовнерчик.
- Похоже, и я вам не нужен? - почувствовал себя задетым Масевич.
- Когда такую женщину без внимания держишь, может случиться, что не понадобишься, - отвечал невозмутимый Жовнерчик.
- А твоей панне кто внимание оказывает? – едко напомнил земляк.
- Мою панну внуки за подол тянут. Эти крепи понадежней других будут, - важно рассудил белорус.
Вика в толстой своей шубе неловко сползла с высокой коляски и засеменила через дорогу.
«Обычная баба и ничего больше», - при свете фар расценил ее приземистую фигуру Масевич. Он давно уже мог позволить себе дорогих и красивых любовниц, но не делал этого. То ли Сережи стеснялся, то ли Викина преданность его сдерживала, то ли в нем самом пробился культ семейного очага. Легкие кутежи, которые он время от времени устраивал в коттедже, были исключительно мужскими. Но тут уже Витась сдерживал. Он мог встать с ружьем на пороге, а чужую женщину в дом не пустить, чтобы не осквернила жилище.
Вика так же неуклюже втиснула свое тело в машину и повернула к мужу румяное, с обиженно выпятившимися губами, лицо. Эдуард не придал значения жалобной гримаске, а про круглящиеся щеки подумал, что, как ни приучал жену следить за фигурой, пышные щеки и грудь не поддавались никакому ограничению, наливались и спели назло строгой диете.
Всю дорогу до дому Эдуард нет-нет, да и взглядывал на яблоковую округлость Викиной щеки и гадал, чем же таким его бесхитростная жена расположила к себе суровое сердце Витася.
Сережа, как будто навсегда позабывший, как они с отцом вместе пели, неожиданно вдруг вспомнил об этом.
- Пап, а почему мы больше не поем с тобой песню про лапти?
- Наверно, потому, что ты слишком занят учебой в двух школах, - отвечал отец из-за газеты.
- А почему, па, ты не поешь? – спрашивал сын.
- Потому что и я занят.
- Но сейчас ты и я свободны – давай споем?
- Я не в настроении, - отказался Эдуард.
- Мы только немножечко вспомним, - приставал Сережа. – Как там, пап, «Стучать мои лапти…». Они, правда, пап, у тебя стучат? А у меня стучат, у Андрея стучат, у мамы стучат?
- А вам и не видно? – откликнулась следившая за разговором Вика. – Я кручусь, верчусь, устраиваю вашу жизнь дома, а вам, наверно, кажется, что я стою на месте? Мои лапти очень даже стучат в своем направлении.
При этих словах Эдуард поднял голову и заинтересованно посмотрел на жену.
- А какое твое направление, мама? – спросил Сережа.
- Чтобы вам всем было хорошо, - простодушно сказала Вика и предложила:
- Хочешь, я с тобою спою?
- Ты не знаешь, - отмахнулся сын.
- Давай начнем, и увидишь, - уверенно смотрела на Сережу Вика, и тот сдался.
Приготовляясь петь, она, сидевшая в кресле, осела, как подтаявший снеговик, с выражением такой же, как у того, глупой радости на лице. Ее даже неприязненный взгляд мужа не остановил. Она хотела петь и запела:
Стучать мои лапти…
При этом просевший снеговик на глазах у всех выпрямился, глупая радость одухотворилась. Вика, не отрываясь, смотрела на мужа. Этой песней она стучалась к нему. Сережа сначала пытался держать голос в уровень с материнским, но не одолел взлета и смолк, озадаченно глядя на мать. Андрей заинтересованно слушал. Эдуард резко поднялся и вышел из комнаты. Вика подстрелянно смолкла, виновато оглядела сыновей, постояла в растерянности и пошла следом за мужем.
Эдуард в ванной плескал на лицо воду.
- Тебе плохо? – встревожилась Вика.
Он в раздражении вытряхнул из ладоней воду и в раздражении обернулся к ней.
- Зачем ты меня достаешь? Чего ты от меня добиваешься?
- Скажи, тебе плохо? – волновалась Вика.
- Да, плохо мне, плохо, из-за тебя, - раздельно выговорил муж. – Для чего ты колупаешь старые болячки? Что ты под ними ищешь?
- Я не думала ни о чем плохом, я хотела, чтобы ты увидел мою любовь, - оправдывалась Вика.
- Разве мы не договаривались, что с чувствами у нас будет густо? – в его карих, широко расставленных глазах играли колючие искры.
- Я не знала, что для меня это станет главным, - вырвалось у нее.
- Главным? – с холодным удивлением повторил он. – Скромная ты женщина с одним единственным запросом. Да знаешь ли ты, что такое любовь? Это потрясение, вспышка, взрывная волна! И если за десять лет совместной жизни ничего такого не произошло, то не произойдет никогда!
- А оно было, было! – защищалась Вика. – Было, когда ты пел мне «Ганулька, Ганулька», когда приревновал к другу!
Масевича поразило и тронуло, что она хранит в памяти малейшие знаки его внимания. Жалея ее, он как можно мягче сказал:
- Ну, Виктория, дорогая, мы же с тобой не чужие, мы законные супруги, и брак наш по счастью удачен. У нас достойная, положительная семья. Ты здравомыслящая женщина, я управляющий собой человек. Зачем нам вспышки и потрясения? Не копай в этом направлении, не ставь под удар устойчивость наших с тобой отношений.
- Сегодня я напомнила твою песню, и тебе стало плохо, - не отступая, сказала Вика. – А если бы не я, а кто-то другой окликнул тебя из прошлого, устояли бы наши отношения?
- Устояли, - выговорил он.
- Тогда зачем ты закрываешь от меня свое сердце? – поставила вопрос Вика.
Погода на день годовщины их знакомства была точно такой, как и десять лет назад. Северный ветер продувал окрестность, волнуя и раскачивая деревья, взвивал и протаскивал по воздуху бумажный сор, прогонял с открытых мест собак и ударял в лицо холодной струею. Гряда сопок на горизонте чернильно синела, и солнце, время от времени пробивавшееся сквозь сизую пасмурность, их мрачного покрова не размывало.
Пронзительная свежесть весеннего дня не мешала съезду гостей в загородный коттедж Масевичей. Три автомобиля приткнулись в разных углах двора. Столько же, высадив пассажиров, умчалось назад. Гости, жившие по соседству, приходили пешком.
Длинноволосый, усатый и долговязый белорус в зеленой шляпе, в коричневой замшевой куртке с набивным узором, в высоких кожаных сапогах с гладкими голенищами встречал прибывающих у ворот. Но первая же приехавшая семья с детьми отвлекла его от этого занятия. Дети бросились к запряженной в коляску лошади. Жовнерчику пришлось катать по очереди и ребятишек, и их матерей, выезжая с упряжкой на трассу.
Эдуард в расшитой рубахе, длиннополом сюртуке и таких же, как у Жовнерчика высоких сапогах, ну чем не поместный пан, выходил к гостям на крыльцо.
Вика принимала гостей дома. Она была в костюмной паре: длинной черной юбке с разрезом на боку, немного ее смущавшем, и напускной блузе с рассыпанными по черному полю желтоглазыми ромашками, широко размахнувшими лепестки с выступавшей из-под них зеленью. Увидев жену в пестром наряде, Эдуард с неудовольствием признал, что так и не приучил женщину к хорошему вкусу в одежде. Вика смотрела на мужа с вопросительным ожиданием, помнит ли он те прежние ее ромашки? Эдуард улыбкою показал, что помнит, посоветовал, какое украшение выбрать и отошел, чтобы ненароком не выказать своего неодобрения.
Побыв до обеда паном и очаровав гостей то ли национальным, то ли сценическим колоритом, к столу Эдуард вышел женихом. В темной дымчатой тройке, белоснежной рубашке и крапчатом галстуке прошел он под руку с «невестой», простоватотрогательно милевшей подле него в своих ромашках.
Витась, не переменивший к столу белорусского одеяния, подошел к»молодым» с поздравлением, расцеловал сначала «невесту», потом «жениха», подав тем самым пример для подражания. Супружеской чете пришлось выстоять показавшуюся бесконечной процедуру поздравлений и целования. Вика опиралась на руку мужа, чувствуя рядом с ним уверенно. Эдуард смотрел на гостей, как на публику, делавшую его успех сегодня, улыбался и очаровывал, как только умел. Но по-настоящему был близок всего нескольким людям: сыновьям, затерявшимся в молодежном конце стола, другу Виталию, сидевшему неподалеку и жене Виктории, стоящей возле него. Он прижимал локтем к себе ее руку, чтобы не потерять этого ощущения близости. Гости же видели перед собой крепко спаянную парочку.
После обеда молодежь потянулась во двор кататься на лошади. Витась доверил управление повозкой сыновьям Эдуарда. Коляска, облепленная седоками, с шумом и хохотом выезжала на трассу. Не уместившуюся в ней молодежь Жовнерчик увлек в затишке игрой в городки, что неожиданно всем понравилось.
Солидные гости из-за столов перешли в приготовленную для отдыха комнату. Вика, с нанятыми в поселке женщинами хлопотала над повторным накрытием стола, изредка выходя к гостям. Эдуард, снова переодевшийся в расписную рубашку, занимал беседой важного гостя, московского президента компании, в дочернем отделении которой Масевич служил. Патрон, немолодой и тяжеловатый человек производил впечатление медлительного и мудрого тугодума.
- Я нисколько не перехвалил твои деловые качества, - говорил патрон, имея ввиду произнесенный им за столом тост, - Я действительно предчувствую в тебе великого человека. Знаешь ли ты, что значит быть великим человеком?
- Знаю, - сказал Эдуард.
- Тебе известен успех? – замер на нем проницательным взглядом патрон.
- Да, - подтвердил Эдуард.
- На каком поприще ты его завоевывал? – неспешно интересовался патрон.
- В музыке. Я профессиональный музыкант. Был, - Масевич испытывал неловкость из-за того, что разговор коснулся запретного для него.
- Ты артист, это видно. Я полагал, что это всего лишь стиль, и я в тебе его одобрял, - неспешно рассуждал важный гость. – Оказывается, ты разносторонне талантлив. Но меня привлекают твои деловые качества. Я их ценю, я за ними слежу, и я их в тебе поощряю к обоюдной для нас пользе.
«О, это уже было», встрепенулась в душе Эдуарда обида на неверных покровителей, но он ее не показал.
- Я спокоен, когда ты ведешь дело, - развивал свою мысль патрон. – Ты умеешь работать с людьми. Ты их зачаровываешь, заласкиваешь и покоряешь. Я ни разу не замечал, чтобы ты при этом терял вдохновение. Возможно, это всего лишь артистизм, но он меня устраивает. На нашем поприще успеха без вдохновения не бывает. Меня восхищает, как ты устраиваешься в обстановке – всегда с удобством, красиво и без черной зависти у окружающих. Взять хотя бы твой загородный дом. Он у тебя и фермерское хозяйство, и поместная усадьба. А белорус твой просто чудо.
- Он мой друг, - пояснил Масевич.
- Думаю, больше, чем друг. Он душеприказчик и твоего имущества, и твоей совести. Надеешься, что он тебя не покинет?
- Душой – нет, а так, у него на родине семья.
- Ты тоже уедешь? – пепелил его глазами патрон.
- Я – нет, жена не поедет, ее родина здесь, - задумчиво произнес Эдуард.
- Она у тебя настоящая русская баба, - заметил патрон.
- Да, настоящая…, - рассеянно повторил Эдуард, имея ввиду что-то свое, и собеседник это уловил.
- Нравится мне и эта твоя особенность – немного сказать, а главный смысл удержать при себе. Ну-ка, признайся, что ты сейчас положил на ум?
- Здорово вы меня просчитываете, - улыбнулся Эдуард.
- Не совсем. Ты для меня не простой экземпляр.
Патрон и сам был не прост. Расположения его Эдуард долго и трудно добивался. И сейчас патрон, Масевич это чувствовал, испытывал его на подтверждение составленного о нем мнения.
- У меня это третий брак, а жена, по сути дела, первая, - приоткрылся Масевич. – Прежних жен я безумно любил, и браком пытался закрепить их любовь. Но разве любовь в клетке удержишь? Одну жену разлюбил я, другая разлюбила меня. В третьем браке я не был требователен к чувству, и этот брак принес мне семью. Семья в узах крепнет, а любовь – нет. Для себя я выбрал семью.
- То-то же, я смотрел, как вы неразлучно стояли, - одобрил патрон. – Я бы хотел, чтобы мы в наших делах так же крепко держались, и чтобы наш деловой брак образовал деловую семью, которой ты так же бы дорожил. Я предлагаю тебе стать одним из моих компаньонов, - торжественно предложил он.
Мгновенье Масевич чувствовал в себе тишину, а затем в ней звонко-звонко, на высоте, прежде никогда не досягаемой Эдуардом воскликнулось: «Стучать мои лапти…».
Патрон, не спускавший с собеседника глаз, уловил его внутреннее ликование.
- Александр Николаевич, дорогой мой патрон! – в волнении выговорил Эдуард.
- Только не патрон, - возразил тот.
- Ну, хорошо, Александр Николаевич, не имею сил отказаться. Я горд, я счастлив, я благодарен и польщен вашим предложением. Я принимаю его обеими руками.
- Я вынужден это сделать, чтобы не потерять тебя. Ты вырос, ты мыслишь самостоятельно и готов действовать самостоятельно. Я не хочу, чтобы ты ушел или тебя б перехватили другие. Скажи, у тебя появлялись подобные мысли?
- Не скрою, я обдумывал свои возможности, - признался Масевич. – Но для моих планов нужны масштабы. На самостоятельном бизнесе я не скоро их достигну. Ваше предложение дает мне самостоятельность и сохраняет масштабы. Я всеми силами буду способствовать их размаху.
- О каких планах ты говоришь? – поинтересовался патрон.
- Не столько планы, сколько мои личные обязательства. Вы спрашивали…
- Давай на ты, мы ведь теперь на равных, - потребовал патрон.
- Ну, хорошо, ты, хотя эта форма для меня еще не привычна. Был вопрос, думаю ли я возвращаться на родину. У меня должок перед здешней землей. Первый раз меня на крыло подняла моя родина. Я тогда не удержался. Во второй раз поднимался отсюда, точнее, из соседнего поселка, где Виктория меня приютила, а аэропорт взял на работу. С той поры я иду вверх, а места эти запустевают. У меня такое чувство, что я вытянул из них живые соки. Я должен что-то здесь сделать. Возможно, построить школу, ребятишки за двадцать километров ездят.
- Деловому человеку достаточно честности, благородство для него не обязательно, - сказал патрон. – Мы делаем прорыв, мы платим налоги и пусть общество строит на них что угодно. В принципе против твоего долга я не возражаю. В нем я вижу не только твою совесть, но и стимул для будущей активности. Но это твой частный долг. Компания к нему никакого отношения не имеет. А сейчас от своего имени и от имени остальных гостей я прошу показать, каким ты был артистом.
- Попытаюсь, - посерьезнел Масевич. – Я давно это позабыл, но жена недавно напомнила. Вика! Оторвал он ромашковый букет от женского цветника. И когда жена подошла, со значением глядя ей в глаза, распорядился:
- веди со двора Виталия, сыновей и сама возвращайся. Будем петь нашу песню. Да поспеши, Виктория, а то я без вас начну.
Вика бросилась исполнять, а Эдуард в волнении сосредоточился. Он услышал, как в недрах его существа оживает артист, ощутил давно не испытываемое им приготовление к выходу, когда душа, как бы переливаясь из краев, наполняет каждую клеточку тела. Преображение было внутренним, но и наружно оно обдало его отсветом одухотворенности, зарядило притягательной силой. Патрон в удивлении наблюдал превращение делового человека в артиста. Присутствующие в комнате гости непроизвольно потянулись к хозяину. Подошли Витась и дети, стали рядом. Витась с одного взгляда определил состояние друга и кивнул, обещая поддержку. Вика, никогда не выступавшая перед публикой, заробела и спряталась за сыновьями. Масевич с высоты вдохновения глянул на слушателей и дал выход душевному приливу.
14 декабря 1998года.
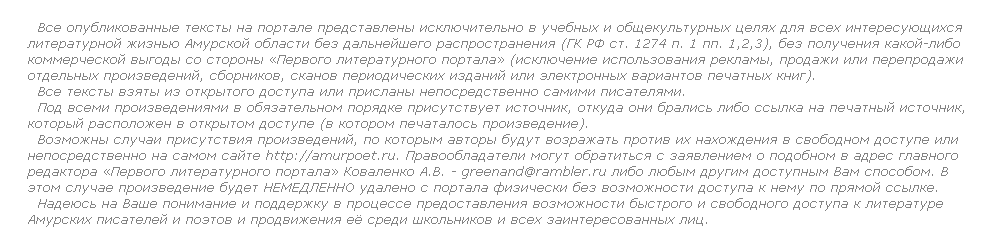
|