Благовещенский вальс
Благовещенск родной,
Красив ты весенней порой.
Тополя шумят над тобой
Молодою листвой.
( Николай Базыкин, Георгий Павлов )
После выхода на пенсию Александр Андреевич Славин, ходивший капитаном на Нижнем Амуре, переселился поближе к родным местам – на Средний Амур. Вместе с женой они купили дом с усадьбой в большом подгородном селе, смотревшим с возвышения на зеленые просторы и дальний город. Немного обустроившись и придав хозяйству обжитой вид, бывший речник вышел ознакомиться с обстановкой за пределами своего двора. И вдруг от первой же повстречавшейся селянки того же, что и он возраста, на Славина ошеломляюще и взахлест, как от внезапно налетевшего ветра, пахнуло давней молодостью.
- Тоня! – пораженно воскликнул он, останавливаясь.
Женщина, шедшая навстречу, тоже приостановилась, пристально вглядываясь в незнакомца в капитанской фуражке.
- Саша! – узнав, растерянно охнула она.
- Ты, небось, думать обо мне забыла, а я вот он, живой, здоровый, тебя встретил! – с радостью и укором сыпал он.
Женщина уловила укор и смутилась еще больше.
- Ты здесь проездом или в гостях? – ухватилась она за первое, что пришло в голову.
- Я дом здесь купил. Вон он, - показал он рукой.
Женщина кивнула. Как местная жительница, она знала, какая усадьба в их селе продавалась.
- А я вот где живу, - указала она на белое, кирпичное строение за штакетниковой оградой. – Мы больше пятнадцати лет тут живем. Я почтой заведовала, на пенсию отсюда вышла. Тут и остались. Заходи в гости, когда захочешь.
- Зайду, - кивнул он. – Хоть раз, а зайду обязательно. Жди.
Разговор на этом прервался. От неожиданности встречи и смущения они не знали, о чем говорить, и надо было привыкнуть к тому, что им снова выпало увидеться.
Женщина свернула к своему дому, а Славин почему-то дальше не пошел. Он стоял как вкопанный, глядя вслед уходящей. У калитки женщина оглянулась. Давний знакомый смотрел на нее задумчиво и неотрывно, будто, как прежде, спрашивал: «Почему ты выбрала не меня?» Он был рослым, подтянутым, статным и крепким для своих лет, очень даже интересным мужчиной, и она, к этому времени подзабывшая мотивы былого решения, с удивлением и любопытством спросила себя: «Да, почему она выбрала не его?».
Дома Антонина Сергеевна почувствовала себя в таком волнении, что не смогла разложить по местам, купленные в магазине продукты и лишь бессознательно перебирала пакеты. Придя в себя, она оставила это занятие, опустилась на стул у стола и, глядя в окно на хозяйственный двор, где копошились куры, отдалась на волю воспоминаний.
В конце лета 1957 года из далекой северной деревни Путятино Тоня Саватеева приехала в город. Она поступила учиться в заочный техникум связи и устроилась работать на телеграф. Папин брат, дядя Миша, не мог взять племянницу в свой переполненный семьею дом и временно поселил ее в служебной каютке на дебаркадере, где заведовал материальной и хозяйственной частью. Тоне понравилось житье на плавучем вокзале. С утра до вечера на тесной площадке толпились пассажиры. Причаливающие катера высаживали одних людей, забирали других, публика обновлялась. Иногда одни и те же лица мелькали по нескольку дней. Приезжавшие решали свои дела в области, а жили на дебаркадере, как в гостинице. Постоянным в этой толчее оставался обслуживающий персонал дебаркадера и команды рейсовых судов. Тех и других Тоня почитала за добрых знакомых, здоровалась при встрече, перекидывалась несколькими словами, прихода некоторых судов ожидала и провожала в рейс. А потому ее здесь тоже признавали за свою. В буфете для Тони в любое время находилось, что поесть, а капитаны, знакомые ей через дядю Мишу, бесплатно брали ее в прогулочные рейсы. В то время речное сообщение во многом заменяло не развитое из-за плохих дорог автобусное. Пассажирские катера ходили вверх по Амуру до самого Игнашино и дальше. А вниз по Амуру, пыхтя и задымливая округу, спускался в последние свои рейсы неповоротливый и древний пароход «Чичерин». Даже к ним на Селемджу, в Путятино и выше к Норску, поднимались малоосадные суденышки. Поэтому дебаркадер бурлил народом и затихал только на ночь. Тоня любила слушать по вечерам плеск воды под каютой и засыпать под слабое покачивание плавучей пристани.
В сентябре, когда снизу несло пронизывающей сыростью и постель казалась влажной, Тоне все равно не хотелось покидать дебаркадер, и она все оттягивала переселение на уже найденную частную квартиру. И вообще, помимо дебаркадера, Тоне все тогда нравилось в городе. Ее жизнь, словно в горсточке, собралась в трех близко отстоящих одна от другой точках. С дебаркадера по набережной или по улице Ленина она бежала на старый почтамт возле парка, где находился тогда телеграф. С работы по той же улице Ленина спешила в Дом офицеров на занятия художественной самодеятельности. Репетиции шли чуть ли не каждый день. То хор собирался, то солисты приходили оттачивать мастерство. Но даже, если никаких репетиций не было, Тоня все равно приходила в ДОСА к новой своей подружке, киномеханику Тамаре, с которой они потом вместе сняли времянку. Через окошечко в будке киномеханика она смотрела кино. А когда танцплощадка в парке закрылась, а в ДОСА открылись танцевальные вечера, Тоня здесь пропадала на танцах. В общем, во всех этих трех точках города жизнь ее протекала наполнено и приятно. На работе ее в ночные смены не ставили, так как ей не было еще восемнадцати. Освобождение от вечерних смен для нее выхлопотал худрук Евгений Николаевич Лыткин. Художественная самодеятельность уже начинала готовиться к столетию города. Тоня была в ней не просто участницей, а одной из главных солисток.
На все эти приятности жизни накладывалась еще одна личная радость по имени Саша. Он увидел ее на дебаркадере и без стеснения подошел.
- Разрешите познакомиться – матрос-практикант Александр Славин, - вскинул он руку под бескозырку.
- Тоня, - улыбнулась она его смелости и еще тому, что парень ей понравился. Он был большой, матросская роба делала его шире и мужественней; лицо открытое всем ветрам, глаза серые, волосы светлые, бескозырка как влитая на темени, затылок высокий, посадка головы гордая. Позже Саша рассказал ей, что родом он из степного зазейского села Раздольного, и это объяснило ей его размашистый облик. Саша уже год проучился в речном училище и проходил практику на пассажирском катере. Тоня с нетерпением дожидалась его из трехдневного рейса, а когда в училище начались занятия, встречалась с ним в редкие увольнительные. Но присутствие Саши рядом Тоня чувствовала неотрывно.
По вечерам курсантов училища выстраивали колонной на площади, примыкавшей к их учебному заведению. Музыканты взрыкивали «Варяга», колонна делала круг по плацу, выливалась на береговую улицу и маршем проходила мимо дебаркадера. В слабом освещении взблескивали трубы, ведшие за собой плотный строй черных шинелей. В тяжелом ритме ударяли о твердь мостовой подошвы ботинок, в косом размахе колыхались оттянутые руки. Лиц нельзя было разглядеть и тем более узнать. Но Тоню, стоящую у борта плавучей пристани согревала мысль, что в этой слитой в единое тело массе обязательно есть Саша. Он, наверное, идет впереди с трубой или в ряду второкурсников, и он знает, что она рядом, возможно, он глядит на нее и различает в темноте ее силуэт.
Колонна уходила к пограничной заставе и далее к лесозаводу, на короткие мгновения обрисовываясь в свете редких фонарей. На площади в это время всплескивала мелодия другого марша и другая колонна, обогнув здание с башенками, сворачивала на береговой улице к парку. Это шли «трудовые резервы». Ремесленное училище располагалось с противоположной стороны площади, которая и для него тоже служила плацем. Издалека обе колонны ничем не отличались: те же черные шинели, те же духовые инструменты, тот же возраст шагающих. Разнили их маршруты и марши. Речники никогда не ходили к парку, а ремесленники – к лесозаводу. Зато в разных концах Краснофлотской улицы перекликались между собой «Варяг» и «Марш трудовых резервов». Симпатии Тони принадлежали «Варягу».
В одну из увольнительных Саша пригласил Тоню в парк. Танцплощадка еще работала. На субботний вечер сюда как магнитом стянулась вся городская молодежь. Новое темного драпа пальто и подобранный к нему желтый берет прибавили Тоне праздничного настроения. Волосы цвета вороньего крыла она по приезде в город подстригла, а к свиданию подвила. Черные с блеском глаза светились сокровенным и трепетным ожиданием. Знай она, какие огни в них горят и как сокрушительно действуют на партнера, сердце ее не охватывалось бы таким волнением, не колотилось бы так и не замирало. И не было бы, может быть, того чувства, которое они вместе с Сашей испытывали в это свидание.
С переполненной танцплощадки они уши в аллеи, гуляли там, а выйти из парка Тоня пожелала со стороны берега. Саша на секунду замялся, но согласие дал. Эту заминку Тоня уловила, но значения ей не придала. Как новый человек в городе, она не знала здешних порядков, не знала о соперничестве и вражде двух стоящих напротив училищ, не знала о разделении между ними береговых территорий. Участок от парка до площади контролировали ремесленники, «фазаны» по-местному. А от площади и дальше к лесозаводу – речники, оскорбительно прозываемые «ракушками». Ступить на чужую территорию означало быть битому. Особенно ярились ремесленники, не прощавшие речникам успеха у девушек. Поодиночке речные курсанты в сторону парка не ходили, а только ватажками, и то лишь с намерением подраться. Тем более не гуляли сюда парочкой, чтобы не быть битому перед девушкой. Но драки, тем не менее, случались. Иногда они переносились под стены речного училища и под крики «Наших бьют!» принимали массовый характер. Разнимать приезжала милиция.
Саша, видно, молодечески не поостерегся. То ли на свою силу понадеялся, то ль на удачу, что «фазаны» не попадутся. Но вряд ли так могло повезти в субботу.
Набережной на Амуре еще не имелось. Берег был природный. Реку возле него загромождали пригнанные с верховьев плоты. Приткнувшись к бревнам, подремывал оставленный на ночь буксир. В черных проемах между плотами колыхались сцепленные гроздьями лодки. С наступлением темноты хозяйственная жизнь на воде смолкала. Река была предоставлена сама себе. И до самой утренней зари», как пела потом Тоня, береговую улицу окутывала тишина.
Молодые люди шли берегом и с необычным доверием открывали друг другу глубинные свои мечты, простенькие по сути, но звучащие в этот момент как самые важные признания. Тоня говорила, что в городе, конечно, интересно, но, когда она окончит техникум, она готова вернуться в свою деревню, потому что у них такая самодеятельность, такая самодеятельность, какой нет нигде, ну, может быть, только в городе, и то потому, что здесь есть профессиональные руководители. Саша говорил, что хочет стать не только речным, но и морским капитаном, чтобы всегда видеть перед собой широкий простор.
В этих безыскусных признаниях они почти угадали свои дальнейшие судьбы. Тоня жила впоследствии в далеких леспромхозовских поселках, пока не переехала поближе к городу. Саша возил грузы с Амура в порты Сахалина и Японии. Его теплоход, имевший вместо названия серию и номер, по фамилии капитана называли «Славиным»: «Славин» пришел, «Славин» грузится, «Эй, на «Славине»!..» - и так далее.
Еще в то свидание они поведали друг другу о своих увлечениях. Тоня рассказала, что любит петь и жить не может без самодеятельности. Саша подтвердил, что на вечерних прогулках он действительно в иные разы идет с трубой впереди строя, так как играет в духовом оркестре, а на своем курсе является еще и строевым запевалой. Так что в вопросах музыки у них большое совпадение.
О том, что, кроме совпадения интересов, необходимо еще соединение судеб, они тогда не подумали. Дружба их только завязывалась и не приблизилась даже к невинным прикосновениям. Они пока не под руку шли и даже не за руку, а рядышком. Но те немногие слова, которыми они обменялись, были наполнены для них огромным содержанием.
Они так увлеклись разговором, что не сразу пришли в себя, когда из темноты на них с угрожающим видом надвинулась кучка черных шинелей.
- Это ваши? – не поняла Тоня.
- Фазаны! – тоном, предупреждающим об опасности, шепнул он.
Тоне припомнилась недавняя заминка в голосе парня, и она поняла, в какую беду, не ведая того, вовлекла человека. От сознания своей вины она, вместо испуга, осмелела. Саша возле нее напружинился в готовности принять бой.
Ватажка надвинувшихся была до того тесной, что на глаз сразу нельзя было определить, со сколькими людьми придется биться. Впереди выступал высокий парень с торжествующим от предвкушения хорошей драки лицом.
- Попался, ракушка! Теперь держись! – зловеще предупредил он.
Саша, очевидно, его знал, потому что обратился к нему по имени.
- Что тебе надо, Колян?
- А то ты не знаешь. Штраф с тебя за нарушение правила.
- А чем штраф?
- Понятное дело, лупцовкой до потери сознания.
- Чьего сознания? – допытывался Саша, не то изучая обстановку, не то оттягивая драку.
- Твоего, Сашок, а чьего же еще?
- Ну, это еще посмотрим, - пообещал Саша и поинтересовался: - Драться будем по-честному или все на одного?
- Испугался уже? – усмехнулся высокий.
И тут поспешила вмешаться Тоня. Вежливо и невинно она проворковала:
- Коля, родственников вы тоже обижаете?
- А кто тут родственник? – выступающий вожаком парень сделал вид, что он только что кого-то возле Саши заметил, будто не из-за девчонки они к речнику привязались.
- Прикинь, с кем по родне мы с тобой сходимся? – смело озадачила его Тоня.
Колян побуравил девушку пристальным взглядом, решая про себя, включаться в игру или нет, и раздумчиво произнес:
- С дядей Гришей, что ли, из Крестовоздвиженки?
- А то, - не утверждая и не отрицая, проронила Тоня.
- Сеструха, значит, - заключил вожак, кивком головы давая отбой заплечной команде. – Не, родственников мы не обижаем, - и насмешливо глянул на Тоню – Только зачем они с ракушками водятся?
- Не твое дело, - угрюмо выдавил из себя Саша.
- А ты проходи, когда по-родственному тебя пропускают, - ехидно подковырнул вожак.
Саша дернулся, чтобы ударить, но Тоня, вцепившись ему в руку, благоразумно повела его дальше.
С этого момента рук они так и не расцепили. Прошагав некоторое время молча, Саша вымученно поинтересовался:
- Что, правда, родственник?
- Да нет, это я, чтоб отвести драку, - весело призналась она.
Парня ее слова вовсе не обрадовали.
- Лучше бы я подрался! – в сердцах выпалил он.
Несмотря на то, что работа на телеграфе Тоню не утомляла и была скорее не в тягость, а в удовольствие, девушка с охотой оставляла ее по окончании смены и вместе с разливом звонка неслась по крутым металлическим ступеням вниз, торопясь к другим удовольствиям. За два года, которые Тоня прожила в Благовещенске, она, казалось, навечно впечатала свои шаги в городской тротуар от почтамта до Дома Офицеров. На самом же деле ни следочка, ни царапины, ни какой-либо отметины от ее каждодневных пробежек не сохранилось. Может быть, потому, что она не бегала, а летала, и у нее были крылья?
- Сеструха, здорово! – свалилось на нее откуда-то сверху, когда она пробегала мимо длинного, составленного строения ремесленного училища.
Тоня задрала голову. Из растворенного окна второго этажа улыбался ей черноволосый парень. В других окнах тоже были видны молодые лица. Ребята терли тряпками стекла, готовя рамы к заклейке.
Только по обращению «сеструха» Тоня догадалась, кто ее окликает. Иначе бы на свету она ни за что б не узнала вчерашнего вожака фазанов. А он ее, надо ж, узнал. Чтобы лучше видеть ее ли показать себя, парень высунулся из окна. Из-под густых, широких бровей весело посверкивали на нее синие, как небо, глаза. А лицо у него не свирепое и не страшное, как показалось ей в темноте, а вполне доброе и очень даже красивое.
- Дяде Грише в Крестовоздвиженке горячий привет, - продолжал улыбаться он.
- Передам, - весело пообещала Тоня, собираясь уходить, но парень снова остановил ее.
- Как тебя звать?
- Тоня, - сообщила она как нечто приятное и, ни на что больше не обращая внимания побежала дальше.
Дебаркадер наконец-то уводили в затон. Тоня, уже жившая с Тамарой во времянке, все еще навещала дядю Мишу и в числе редких уже посетителей пользовалась услугами буфета. Но вот был назначен день и время отхода, и Тоня, отпросившись пораньше с работы, пришла проводить.
Буксир уже подвели к плавучей пристани. Персонал выстроился у борта, помахивая рукой малой горстке провожающих. В глубине дебаркадера гремел голос дяди Миши, дававшего последние распоряжения. Он почему-то не спешил с отплытием, будто чего-то еще ждал. День был холодный, с пронизывающим ветром. Амур ежился, так же как и люди, торопливо толкая серые, тусклые волны.
Со двора речного училища вышли трое курсантов с преподавателем, неся в руках серебряные инструменты духового оркестра, и строевым маршем направились к дебаркадеру. Встав шеренгой на берегу, они по команде преподавателя поднесли инструменты ко рту и заиграли «Прощание славянки». Дядя Миша протиснулся между своими сотрудницами и замер, изредка вытирая рукою глаза. Он был чувствителен к музыке. У Тони тоже от волнения сдавило в груди: в числе играющих был Саша.
Опомнившись, дядя Миша дал сигнал к отправлению. Дебаркадер сначала поплыл вдоль берега. Все, кто был на нем и на причале отчаянно замахали руками, а Тоня, растрогавшись, заплакала. Уплывал ее первый в городе приют, первая радость и первое счастье.
Когда дебаркадер ушел на середину реки, музыканты перестали играть, и Саша подбежал к Тоне.
- Ну что ты, Тонечка? – склонился он к ней, заглядывая в глаза. Из глубины их, сквозь застилавшую влагу, со стыдливостью и смущением открылось ему потаенное девичье признание. И еще до того, как преподаватель крикнул: «Курсант Славин, вернитесь в строй!», Саша ответил глазами: «Я тоже».
Потом она смотрела, как уходит короткий рядок черных шинелей, откуда поминутно оглядывается на нее Саша. Слезы ручьем текли по ее щекам, но желание плакать не утолялось. Зато сердце в груди стучало легко и наполненно.
Все уже разошлись. Она стояла одна над продрогшей рекой. Внутри нее повторялись одни и те же слова: «Ах, дядя Миша, какие мы с тобою похожие!».
Спустя несколько дней, выходя вместе со сменой из служебного помещения, Тоня увидела внизу лестницы черную шинель. Сердце ее так и ойкнуло: Саша!». Но, спустившись на несколько ступенек, поняла, что шинель не та и человек в ней не тот, а подойдя еще ближе, разглядела на пуговицах не якоря, а скрещенные с молотком разводные клещи.
- Здорово, сеструха! – знакомо поприветствовал ее ремесленник.
- Здравствуй, - не очень весело отозвалась разочарованная Тоня.
- Может, по-родственному в кино сходим? – предложил Коля. При этом синева его глаз была такой густоты, что казалась почти черной. За деланной невозмутимостью виделось, что парень напряжен и натянут. Понятное дело, беспардонно лезет в чужой огород.
- Не могу, - отказала Тоня, - у меня репетиция.
- Когда?
- В шесть часов.
- Ты успеешь. В малом зале сеанс на четыре сорок пять.
Тоня не знала, как ей быть. Она сама навязала ему родство, и совесть обязывала хотя бы внешне это родство признавать. С другой стороны, ее раздражало, что он вон какой оказался цепкий, хочет втиснуться между нею и Сашей. Не выйдет!
- Хорошо, чисто по-родственному сходим, - сухо сказала она, давая понять, что на иное отношение к себе рассчитывать он не должен.
Похоже, ему этого хватало. Он оказался молчаливым спутником, в расспросы не лез, на откровения не напрашивался, но, получив ее согласие на кино, держался уверенно, ее скованностью не тяготился и скромно ухаживал.
В буфете Коля купил по пирожному и лимонад. Тоня не отказалась – после работы есть ей хотелось. Стоя напротив него за высоким столиком, она с удивлением спрашивала себя: почему Сашино лицо все целиком, в общем впечатлении, одним взглядом угадывается, а Колино – можно разглядывать по частям, как картину? Оттого ли, что оно красиво каждой чертой? Вписано в правильный овал. Прямой нос, ярко очерченный небольшой рот, кирпичный румянец на смуглых щеках… Девчонки должны быть без ума от такого парня, а она увлечена Сашей. Он бы не стоял столбом у стола, а рассказывал бы что-нибудь интересное. Впрочем, рассудком признала Тоня, сдержанность Коли тоже приятна в общении.
Фильм был французский. В нем показывалось, как одна женщина вместе с любовником изживала со свету законного мужа. Тоня невольно сопоставляла ситуацию в фильме со своей и по мере развития действия все больше проникалась виной перед Сашей. К концу фильма она изказнила себя за измену, а когда они с Колей вышли на улицу, с решительностью сказала:
- По-родственному я в кино с тобою сходила – и на этом конец. Ко мне больше не приходи!
Сквозь ранний сумрак осеннего вечера Тоня увидела, как на щеках парня еще сильней проступили пятна румянца, но ее решения это не изменило.
В первый раз Тоня опоздала на репетицию. Худрук Евгений Николаевич, сидевший за баяном, неодобрительно покачал головой. Хормейстер Нелли, распевавшая женскую вокальную группу, осуждающе на нее покосилась. Тоня встала на свое место и попробовала подхватить распев. Но, странное дело, из ее горла вырвалось неизвестно от чего появившееся хрипение. Нелли настороженно вслушалась и, прервав распевку, спросила:
- Тоня, что у тебя с голосом?
- Не знаю, - сама себе удивилась девушка.
- Ты простыла?
- Да нет, кажется.
- Не порти нам звучания, иди, прогуляйся по коридорам, - распорядилась Нелли, и Тоня вышла.
Она покружила по залам фойе и коридорам, охватывающим по периметру зрительный зал, поглядела на китайские вазы, картины, ковры, украшающие холлы, в военном зале задержалась у полотна, изображающего бойцов на привале с Теркиным посередине, всмотрелась в смеющиеся лица солдат, пытаясь заразиться их дружным хохотом, но голос к ней не вернулся. Тогда она зашла в кинобудку к Тамаре.
- Сегодня я ухажера отшила, - призналась она подруге.
- Сашу?
- Ну, что ты! – испугалась Тоня подобному повороту. – Другого.
- А зачем отшила?
- Я же с Сашей дружу.
- А этот другой, он кто?
- Он из ремесленного училища.
- А-а, - разочарованно протянула Тамара.
- Он очень красивый, - заступилась за отвергнутого парня Тоня. – Стройный такой, глаза синие...
- Ну и зачем отшивала? Пускай бы тоже ухаживал. Я б на твоем месте крутила с тем и другим. Какой-нибудь сам отвалится, - рассудила подруга.
- Не хочу я несерьезной оказаться. Они-то ко мне по-серьезному.
- Зато во как бы нагулялась! – мечтательно вздохнула подруга.
- Все равно бы пришлось выбирать, - покачала головой Тоня. – Лучше уж я сразу…
С нарастающим усердием самодеятельные артисты готовились к праздничному концерту в честь сороковой годовщины Октября. Участились и удлинились репетиции. Тоня отшлифовывала ею самой выбранную для сольного исполнения песню «Матросские ночи». Евгению Николаевичу ее выбор не очень понравился, но запрещать он не стал, чтобы не убить в артистке душевного трепета. Хормейстер Нелли своего отношения к выбору Тони не выразила. Она работала с Тониным голосом, и ей удавалось добиться проникновенного, иногда трогающего до слез, звучания. В таком случае Евгений Николаевич в удивленном восхищении раскрывал глаза. И вообще, порой глядел на Тоню так, словно ждал от нее чуда. Но Нелли чуда не ждала и Тонины возможности не переоценивала. Она признавала, что ее голос способен на высокие взлеты, но в то же время считала его хрупким, неустойчивым, подверженным срывам и зависимым от настроения. Поэтому Нелли не замучивала Тоню на репетициях, советовала не перетруждать голос, беречь его не только от простуды, но и от ненужных волнений. Тоня же знала, что у нее все будет хорошо, пока она в настроении. А она была в настроении, представляя, как взволнуется, услышав ее пение дядя Миша и как обрадуется Саша, когда поймет то, что она вложила в свою песню именно для него. «Матросские ночи» Тоня посвящала им обоим, хотя каждому из них по-разному.
Для дяди Миши Тоня выпросила у Евгения Николаевича пригласительный билет на торжественный концерт, где должно было присутствовать все высокое руководство города. Она видела издали, в каком приподнятом духе, с какой праздничностью он вместе с женой пришел на концерт. А потом, глядя со сцены, потеряла его из виду в густой массе зрителей. Но когда пела сольную свою песню, то мысленно держала перед собой его плотную фигуру в форменном кителе, его добродушное, с выражением растроганности лицо и непосредственно к нему обращала свое родственное обожание и восхищение. Она как бы поднимала над всеми затерявшегося в глубине рядов скромного дядю Мишу и как бы показывала: вот он тот самый человек, душа которого живет в ее песне.
И дядя Миша услышал все, что предназначалось ему. Он сидел, смущенно вытирая платком глаза, а когда, по выходе из зала, встретил в фойе Тоню, с почтением, как большой артистке, поцеловал ее руку и прочувствованно сказал:
- Ах, Тонечка, как ты меня подняла, как окрылила! Нельзя же так ни за что возвеличивать…
После этого торжественного выступления самодеятельность давала праздничные концерты для комсостава Благовещенского гарнизона, для его воинов, а затем и для курсантов речного училища. Перед этим концертом Тоня волновалась как никогда. Сквозь узенький просвет в занавесе она наблюдала, как заполняют зал черные мундиры. В каждой рослой фигуре ей чудился Саша. Сердце ее вздрагивало и бешено колотилось. Саша знал, что она будет петь, но не знал, какую песню. Этого она ему не сказала и теперь побаивалась неизбежности, с какою раскроется для него ее чувство.
Она так и не отыскала его взглядом в зрительном зале, и когда вышла петь, все лица сидящих перед нею курсантов неразличимо слились. Тогда она, как в случае с дядей Мишей, мысленно представила себе лицо Саши, глядящее на нее понимающе и серьезно, и ничего уже не боялась и пела для него и о нем. Голос ее глубоким и нежным звучанием выдавал то самое чудо, которого всякий раз ожидал от нее Евгений Николаевич Лыткин. В эту минуту он восхищенно и благоговейно смотрел на свою ученицу из-за кулисы. Но она его не видела. Выговаривая сердцем: «Ой, вы ночи, матросские ночи, только море и небо вокруг…» - она переводила слова в образы, переживания, чувства. Предназначалось это для одного только Саши, но каждый слушающий думал, что для него.
Когда Тоня закончила песню, тишину зала всплеснули аплодисменты, а по проходу бежал к ней рослый курсант с цветами. Это был Саша. Он с торжественным видом вручил ей неизвестно как добытый букет. А глаза его подтвердили: да, они оба из этой песни. Зал бурной овацией скрепил это признание.
Евгений Николаевич перехватил Тоню в кулисах и, прижимая к груди, горячо прошептал:
- Ты это заслужила, девочка, ты заслужила!
Неизвестно, что он имел в виду – Тонин успех, аплодисменты, цветы или ее молодую любовь.
В этом концерте Тоня, единственная из всех получила цветы. В раздевалке она вдруг разразилась проливными слезами, и недоумевающие подруги никак не могли ее успокоить.
С октябрьских праздников для Тони и Саши началась пора безоблачных и счастливых свиданий, поцелуев, объятий. Предводитель «фазанов» Коля Тюрин с горизонта совсем не исчез. Он кружил поодаль, словно не терял веры в свой час. Тоня видела его на танцах в Доме офицеров. Когда не было рядом Саши, Коля подходил к ней и говорил, как ни в чем, ни бывало:
- Сеструха, пошли потанцуем.
Обращение «сеструха» действовало на нее магически, и она выходила на танец, хотя и знала, что Саше это не нравится. Кроме, так называемого родственного долга, Тоня танцевала с Колей еще и в благотворительных, учебных целях. Несмотря на тополиную стройность, Коля совершенно не был способен к танцам. К тому же у него, похоже, вовсе не было слуха. Он не попадал в ритм, бестолково топтался, не смущаясь при этом своей неловкости. Тоню его неумелость смешила и умаляла в ее глазах достоинства красивого парня. Она не видела, чтобы Коля еще кого-нибудь приглашал, и снисходила к нему из сочувствия.
С нового года хоровой коллектив начал готовить программу к летнему празднованию столетия Благовещенска. Разучивались новые песни, пополнялся репертуар. Для солисток Евгений Николаевич принес сочинение местных авторов, посвященное юбилею города. Называлось оно «Благовещенский вальс». Худрук наиграл мелодию на баяне и напел слова. Вальс очаровал всех. Каждая солистка захотела его исполнять. Но хормейстер Нелли положила песню на три голоса, сведя вместе Тонину звонкость колокольчика, грудную наполненность своего голоса и бархатистый разлив пения медсестры Люси.
Звучание получалось объемным, широким, а оттого что солистки пели с чувством и удовольствием, оно проникалось еще задушевностью тона.
Авторы вальса не были жителями Благовещенска. Они приезжали сюда по делам или в гости и отразили в стихах свое гостевое впечатление. Тоня тоже была приезжей и еще не воспринимала город изнутри, а продолжала видеть его как бы снаружи. Поэтому новая песня сразу же запала ей в сердце, запелась в нем и закружила девушку в своем ритме. Особенно волновали Тоню припевы:
Благовещенск родной,
Пусть зори горят над тобой.
Ты стоишь такой молодой,
Над амурской волной.
Мотив вальса не расставался с Тоней ни на работе, ни дома, ни когда бежала по улице. То же, наверно, происходило с ее напарницами и другими участницами самодеятельности. Так или иначе, но песню о Благовещенске не удалось сохранить сюрпризом до юбилейных торжеств. Она вылетела из репетиционного зала и разлетелась по городу, завоевывая симпатии жителей. Поневоле участникам художественной самодеятельности пришлось исполнять ее прежде времени в выездных выступлениях: на пограничных заставах, в цехах предприятий, в фойе кинотеатра, на всякого рода городских и областных мероприятиях.
Вальс выдвинулся на передний план в Тониной жизни, потеснив собою обоих ее кавалеров. И пока она пела, оба парня исчезли из ее глаз. Закончился учебный год, пришло время летних практик, и ребята разъехались. Юбилейные торжества задержались из-за наводнения, затопившего улицы. Тоня добиралась на работу на лодках. Тяготы стихийного бедствия стали для нее увлекательным приключением. Когда вода схлынула, город вычистил наносы и справил столетие. Все дни торжества Тоня была страшно занята и ничего, кроме лиц слушающей публики, перед собою не видела. Но после того, как все праздничные выступления отошли, телеграфное начальство, не делая самодеятельной артистке уже никакого снисхождения, вместе с молодежной бригадой работниц связи послало Тоню в колхоз на уборку урожая.
Связисток увезли в небольшую деревушку на берегу Амура, поселили в бригадной избушке и поставили на копку картофеля. Почва после обильных дождей была переувлажненной, рядки длиннющими, а поле безмерным. Как деревенская уроженка, Тоня хоть и была привычной к подобным трудам, но и она с тяжким усилием выдерживала нагрузки. Картошку приходилось выбирать буквально из грязи, руки и ноги целый день в сырости, одежда за ночь, пусть и над печкою, до конца не просушивается. Рано захолодевшая осень с затянувшейся дождевой моросью и высокие нормы, с которыми девчата едва справлялись, лишали колхозную жизнь даже маленьких радостей.
Через полторы недели в помощь связисткам прислали отряд воспитанников ремесленного училища, среди которых был Коля Тюрин. На следующее утро черные бушлаты «фазанов» рассыпались по соседству с разномастными жакетками девчат. Коля подошел к Тоне, приветствуя ее неизменным своим обращением:
- Здорово, сеструха! – А затем склонился рядом с ней над картофельным рядком.
- Не надо, я сама, - запротестовала, стесняясь подружек, Тоня. Но Коля молча продолжал работать. Руки его действовали так проворно, будто он всю жизнь только тем и занимался, что выгребал из земли картофель. А был он леспромхозовским парнем из верхнеамурского поселка и в городе учился на лесозаготовителя широкого профиля с умением управлять механизмами и ремонтировать их.
Колина сноровистость подгоняла и Тоню. Вместе они прошли являвшийся дневной нормой рядок, после чего Коля вернулся на свой, а Тоня помогала приотставшим подружкам. Так стало продолжаться изо дня в день. Руководитель ремесленников попробовал возмутиться, на что Коля коротко возразил:
- Одно дело делаем, могу я девчатам помочь?
К тому же свою норму он вырабатывал – где сам, где ему помогали товарищи. Тоню же подружки отправляли растапливать печь и варить ужин. Обед им возили на поле, а ужин и завтрак они готовили сами.
Вслед за Колей со связистками задружили и другие ребята из ремесленного училища. По вечерам они стекались к бригадной избушке, где жили девчата. Сюда же подтягивалась немногочисленная деревенская молодежь. Если приходил гармонист, немолодой уже местный житель, то затевались танцы. Если музыки не было, устраивались перепевки. Девчата парой выходили в круг, приплясывали, били дробь и выкрикивали частушки, стремясь сразить одна другую забористым куплетом. Когда одна пара иссякала, выходила другая, и состязание продолжалось. Иногда кто-нибудь из парней выдавал с места острую припевку:
Милка, ты меня не любишь,
Милка, ты меня не ждешь.
Знаю, милка, на вечерку
С другим хахалем пойдешь.
И сейчас же скорая на отдачу певунья с насмешливостью отзывалась:
Чем я, милый, провинилась,
Чем в сомнение ввела?
Вчера поздно на гулянье
С родным братом я пришла.
Тоня тоже выбивала дробь и тоже выкликала частушки, благо еще по своей деревне много их знала. Коля обычно находился в толпе ребят и на гулянье ничем себя не выказывал. Правда, на каждый танец он неизменно ее приглашал, но, как догадывалась Тоня, только потому, чтобы другие не танцевали с нею. Танцевать он по-прежнему не умел, но теперь в глазах Тони это его достоинств не умаляло. В остальном же по отношению к ней он оставался скромен и сдержан. На вечерке возле нее не торчал, на уединенные прогулки не приглашал, границ родственно-товарищеского общения не переступал. Единственное, что заметила Тоня, - перестал говорить ей «сеструха» и называл просто по имени. Может, он ее лишь по-родственному воспринимает, как и она его? Но когда в темноте рядом с ним вспыхивала спичка или разгоралась папироса, вырывая из мрака его лицо, и Тоне бросались в глаза его воспаленные щеки, у нее закрадывалась мысль, что в городе она Колю недооценила. Конечно, с Сашей его не сравнить, но такой надежной и такой верной опоры рядом с собой она еще не имела.
Вскоре девичью бригаду перевели с поля на зерновой двор, под навесы – сушить, перебирать и затаривать картошку, предназначенную для отправки в город. Работа здесь была легче, чем в поле, но надоедала однообразием. На сквозняке под навесами Тоня простудилась. У нее поднялась температура, воспалилось горло, осип и затем совсем пропал голос. Коля вызвал к ней деревенского фельдшера, поил ее горячим молоком с медом, который раздобыл в деревне, следил, чтобы она выпивала лекарства, прибегал с поля протопить печку. Когда ее трепало в жару, он отгонял от дома гулянку. Молодежь уходила петь и плясать дальше, а Коля оставался сидеть возле больной.
- Ты прямо как настоящий родственник, - похвалила его Тоня, продирая голос сквозь сиплость и хрипоту.
- Может быть, больше, - отозвался Коля, и кирпичный румянец выдал его смущение.
Тоня поняла, что это признание, и почувствовала себя виноватой.
Когда болезнь прошла, оставив след только в охрипшем голосе, не старшая по бригаде связисток, а Коля выхлопотал у колхозного бригадира для Тони легкую работу в помещении. И девушку перевели в учетчицы.
За урожаем из города пришла самоходная баржа, в ее команде был Саша. Выгрузив привезенное для сельмага и колхоза, капитан заторопил бригадира с погрузкой. По мосткам, с мешками на спине, побежали на баржу ребята из ремесленного училища. Саша увидел среди них Колю и помрачнел. Он пристально глянул на стоящую на берегу Тоню, с которой недавно радостно расцеловался. Она с тяжело давшимся спокойствием выдержала его взгляд, виновато сознавая в душе, что скрывает от него то, что здесь, в деревне, Коля стал много ближе ей, чем был в городе, хотя и не затмил собой Сашу. Но от себя самой она не могла скрыть, что приезд Саши больше расстроил ее, чем обрадовал.
Погода, пугавшая девчат в первую половину месяца, сменила гнев на милость и баловала людей ясными, солнечными, но холодеющими деньками. Река синела, приняв в себя цвет неба, но от воды все же несло обжигающей студеностью. Ребята метались от подвод к барже, перетаскивая на судно мешки с зерном, картофелем, овощами. Команда укладывала их на палубе. Тоня, похаживая туда и сюда, чтобы не мерзнуть, считала отправляемый груз.
Когда опустела последняя, прибывшая от зернового двора, подвода и капитан с председателем колхоза и бригадиром уединились для заполнения накладных, Саша, обняв Тоню за плечи, увел ее по берегу подальше от посторонних глаз.
- Тонечка, ты плохо выглядишь. Давай я тебя увезу, - сказал он ей.
Тоня, мало говорившая, чтобы не выдать простуженный голос, отрицательно покачала головой.
- Не возражай, Тонечка, что тебе больной тут делать?
- У меня подсчеты, - прижимая руку к горлу, чтобы, как ей казалось, удобнее было говорить, хрипло проронила она.
- Ну, вот видишь, ты больна. Поедем, чтобы совсем не разболеться, - упрашивал Саша.
- Я поправилась…Только голос, только голос.., – отрывочно выбрасывала она слова.
- А его разве лечить не нужно? Он у тебя, Тонечка, золотой.
- Не могу… Я со всеми… Скоро… - упорствовала она.
- Ты, дорогая моя, еще и упрямица.
Саша прижал подружку к себе, осыпая ее лицо бессчетными поцелуями, как целуют, прощаясь.
С баржи подали сигнал к отправлению. Саша и Тоня вернулись к судну.
- Ну что, не надумала? – спросил напоследок Саша.
- Нет, - покачала она головой.
- Ну, береги себя. Возвращайся скорей. Жду тебя в городе, - проговорил Саша и, не обращая ни на кого внимания, крепко поцеловал девушку.
Баржа уже скрылась из виду, а Тоня все еще стояла на берегу, подавленно глядя вслед. Ей казалось, что вместе с судном из ее души ушел праздник.
- Сеструха, пошли, хватит мерзнуть, - тронул ее за плечо Коля.
Он снова установил между ними дистанцию, но все так же был рядом.
По возвращении в город Тоня узнала, что у нее пропал певческий голос. Сколько Нелли ни пыталась с ним поработать, ничего не вышло. Евгений Николаевич горестно сокрушался и казнился тем, что не уберег лучшую солистку. Врачи тоже ничего для Тони не обещали. Кто-то из знакомых сказал, что голос могло посадить горячее молоко с медом, которым Коля выгонял из нее простуду. Выходит, оба они, по незнанию, убили ее хрупкий дар.
Тоне посоветовали дать отдых связкам, не раздражать их долгим разговором и острой пищей – возможно, голос тогда возвратится. Иногда Тоня заглядывала на репетиции, чтобы послушать бывших своих товарок. Евгений Николаевич встречал ее внешне приветливо, но ожидания от нее чуда в его глазах уже не было. И Тоня поняла, что заветная звезда ее жизни погасла – пения со сцены в ней больше не будет.
Тоне исполнилось восемнадцать лет и ее начали ставить в ночные смены. Это позволило ей потеряться для тех, кто до сих пор был ей близок и дорог. Она не ходила к дяде Мише, чтобы не увидеть в его глазах сочувствия. Она стала избегать ни о чем не подозревавшего Сашу, откладывая свидания под видом того, что ей все время приходится подменять кого-нибудь на работе. Он запутывался в ее сменах и чувствовал, что теряет подругу.
- Что с тобой, Тонечка? Скажи… Почему ты такая понурая, невеселая? Что случилось? Кто тебя обидел? - допытывался Саша, взывая к бывшей прежде откровенности между ними.
Тоня скрывала от него потерю голоса, считая, что теперь, утратив дар, сделается для него неинтересной. Саша был все такой же открытый, полный надежд, двигался вперед. Ее же крылья опали, и она от друга безнадежно отставала. Зато от Коли она не пряталась, хотя и не назначала ему свиданий. Он приходил сам. Встречал с вечерней смены, провожал в ночную, никогда не путался в ее рабочем графике. Как он устраивал и чем обосновывал уходы из училища после отбоя, Тоня его не спрашивала, а он не рассказывал. Он вообще большей частью отмалчивался, не задавал вопросов и, тем более, не призывал к откровенности. Он будто все заранее о ней знал, а чего не знал – чутьем угадывал. Они молчком, и даже не под руку, проходили по ночным улицам и в конце маршрута – у почтамта или у калитки хозяйского дома, где она снимала времянку, - коротко прощались. С Колей все так же было надежно, но скучно. Если Саша представлял собой праздник, то Коля – будни, что больше подходило новому настроению Тони.
В иные дни девушку охватывала острая тоска по Саше, по празднику, по былым радостям. Ведь она даже на танцы теперь не ходила. Вспомнив все, Тоня расстраивалась и принималась плакать. А выплакавшись, не искала встреч с Сашей, не бежала в Дом офицеров на танцы или на репетицию хористов. Она осаживала себя убеждением, что без самодеятельности у нее не может быть ни Саши, ни праздника.
Весной Коля оканчивал училище и в начале лета должен был уехать домой. Он все так же молча ходил рядом с Тоней, приручая ее к себе постоянством и верностью. Незаметно их отношения вызрели до объяснения словом. И молчаливый Коля это слово сказал:
- Давай, Тоня, поженимся и всегда будем вместе.
Довод «всегда будем вместе» особенно ее убеждал. Она насильно разлучала себя с Сашей, разлуку же с Колей считала непереносимой. И потом, что ей делать в Благовещенске? Свой вальс ему она уже спела, а другой песни для него у нее уже не будет. Саше теперь она не пара. С Колей они равноправны, и от этого роднее друг другу и ближе. Заочный техникум для замужества не помеха. Да и само замужество с Колей в данный момент ничему не помеха.
Она согласилась. Услышав ее ответ, Коля, отбросив обычную сдержанность, рванулся к ней, а она – к нему, утверждаясь в душе, что ее согласие не ошибка.
Объяснение с Сашей не вызвало у Тони мук совести. Ее возвышенное чувство к нему осело, как оседает под дуновением сквозняка тесто. Саша же принял ее объяснение тяжело.
- Но почему? – воскликнул он. – Почему? У меня к тебе ничего не изменилось. Что у тебя изменилось ко мне?
- Видно, я раньше тебя повзрослела, и мне нужно обновить жизнь, - сказала Тоня.
- Через год мы бы вместе ее обновили, - уныло возразил Саша.
- Еще год – это слишком для меня, слишком… И потом, все уже решено, - сказала Тоня.
Расписались они в городе, а свадьбу поехали играть в Колин поселок. Уезжали на рейсовом теплоходике. Дядя Миша расцеловался с племянницей на дебаркадере, скрывая удивление, что рядом с ней не Саша. Но и Колю признал он душевно, и с ним, обнявшись, расцеловался. К своему огорчению, на борту катера Тоня увидела Сашу, проходившего на нем штурманскую практику.
Когда теплоходик отплыл, и Тоня, прощаясь с дядей Мишей и городом, махала тому и другому рукой, в душе ее зазвучал любимый ею вальс, но только слова она в него вложила свои:
Благовещенск родной,
Навсегда расстаюсь я с тобой.
Вечно стой такой молодой
Над амурской волной.
Во время пути Саша не беспокоил молодых своею персоной. Но когда Тоня случайно ловила его взгляд, то видела в нем все тот же вопрос: «Почему?». Со своей стороны она уже не чувствовала себя недостойной его. У нее приподнялись крылья. Впереди ее ждала новая жизнь, с новым счастьем и новыми радостями.
Несмотря на то, что Саша старался не показываться на глаза, его присутствие на теплоходе сковывало молодых. Они уже открыли друг ругу свои ласки. Из-за Саши приходилось сдерживаться, не показывать своей любви. Это мучило их в дороге.
Саша не вышел к ним проститься. Последний раз в Тоне шевельнулось чувство вины и потери светлой мечты. Но теплоход ушел, а у них с мужем тут была конечная остановка. Коля по-прежнему надежно держался рядом. И вскоре в Тонином сердце и памяти, кроме Коли, ничего не осталось. А юность прошла.
Но вот она встретила Сашу, и воспоминания юности просияли ей светлым праздником. Они не смутили ее вопросом «почему?» и сожаленья с собою не принесли. Праздники мелькают, а жизнь течет такая, как есть. Рассудив так, Тоня восстановила в себе душевное равновесие и в спокойствии приняла пришедшего в гости Сашу. Он явился в капитанской форме, с хорошей выпивкой и закуской. Похоже, нарочно подгадал, когда Коля, и после выхода на пенсию продолжавший работу в бывшей совхозной мастерской, будет дома. У Тони тоже нашлось угощение. Они втроем сели, но разговор между ними завязался не сразу.
- Вы молодцы, сохранили брак, - похвалил гость хозяев. – А я вот два раза женился. С первой женой мы легко и красиво жили, а разошлись по дурости, потому что захотели свободы и личной жизни для каждого. От первого брака у меня сын – семейный, давно сам живет. Вторая моя жена молодая, дочь есть, - студентка, в Хабаровске учится. А у вас как с детьми? – поинтересовался Саша.
- Трое у нас и внуки взрослые, - сообщила Тоня.
- И по потомству вы меня обогнали, - без горечи усмехнулся Саша и в оправдание заключил: - Ну, это как кому выпадает. Главное, что я хочу знать, - почему ты тогда не меня выбрала? Чем я тебе не подошел?
- Причина была не в тебе, а во мне, - призналась Тоня.
- И какая ж причина? – уставил на нее твердый и выжидательный взгляд Саша. На когда-то открытом, мальчишечьем лице с годами выложилось командное, волевое выражение человека, умеющего крепкой рукой держать обстоятельства.
- Я потеряла голос, - произнесла Тоня.
- Голос? – изумился Саша.
В посветлевших к старости глазах Коли тоже всплеснулось удивление.
- Голос… - уже раздумчиво повторил Саша. – Неужели из-за этого стоило разрушать любовь?
- Я побоялась стать для тебя неинтересной.
- А я-то ломал голову: из-за чего ты от меня отклонилась?.. Ты бы хоть сказала, хоть намекнула… Я бы тебе объяснил, что не голос, а сама любовь имеет для меня значение. А что от тебя услышал? Что ты повзрослела, хочешь замуж и ждать, когда я повзрослею, не желаешь, - упрекнул задним числом Саша.
- Что мне еще оставалось делать? Без самодеятельности жизнь мне показалась пустой, - застыдившись, объяснила Тоня.
- Вот, значит, как было? – вступил в разговор Коля. – А я думал, у вас нелады, и она по тебе сохнет.
- Ты тогда меня спас, Коля. От меня самой спас! – горячо встала за мужа Тоня.
- А я, получается, проглядел в самую нужную для тебя минуту. Сам виноват, признаю, - взял на себя вину Саша. – Все теперь ясно. Давайте помиримся. Столько лет во мне обида занозой сидела.
- Ты все такой же широкий, Саша, и великодушный. Прости меня, - с пробудившимся сожалением выговорила Тоня. – Вас обоих выбрать я не могла, но за любовь благодарна обоим
13.10.2013г. Беляничева Галина Петровна, 675019 Благовещенск, Ам. Обл. Аэропорт
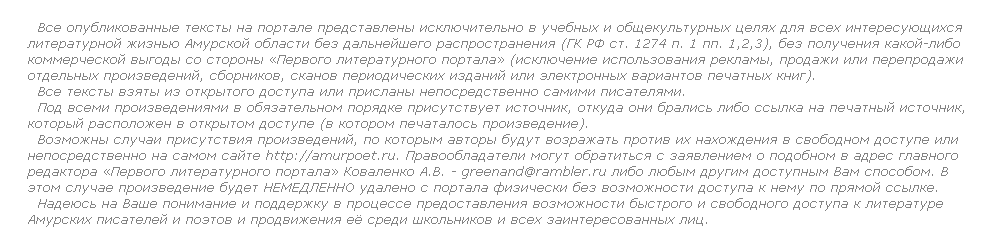
|