Амурские байки. Гуманитарная помощь помощь
Должно быть, предки отдавали себе отчет, когда выбирали для поселения глухое, отдаленное от соседнего жилья место на северной реке. Конечно, их привлекли сюда богатые возможности охоты, рыбалки, еще доступное, хотя и ограниченное климатическими условиями земледелие, лесное изобилие, сама река, в то время судоходная, уединение и в немалой степени красота. Они поставили село на косогоре, откуда хорошо просматривалась река и заречный простор. По названию ли утеса или потому, что с реки деревня наверху казалась низенькой, приземленной, как бы присевшей на корточки, ее назвали Медвежонком, а судьба в дальнейшем распорядилась так, чтобы сельцо никогда не выросло до взрослого медведя. После того, как оно пережило коллективизацию, а потом побывало отделением одного из совхозов, его признали неперспективным, расформировали, а жителей переселили на центральную усадьбу. Прекратив официальное существование, исчезнув со справочников и карт, она, однако же, уцелела и продолжала жить в неофициальном состоянии. Дух предков, искавших уединения и самостоятельности, выказал себя у некоторых из потомков. Они не поехали, пусть и в новые дома, но в чужую деревню, или, уехав, с течением лет возвратились к родным очагам. Иные из жителей и вовсе невесть откуда явились и осели, словно всегда тут и были. Но наибольшее оживление вносили в жизнь потухшей деревни рыбаки, приезжавшие сюда за карасями величиной со штык лопаты. Это кипучее, жаждущее добычи племя толклось в селенье с мая по октябрь, побуждая его к выживанию и создавая о нем легенду.
О том, что списанное со счетов село живо, что в нем живут люди и что они предоставлены самим себе, районное начальство знало и даже болело за него душой, так тоже бывало там на рыбалке, но за текучкой дел руки до него не доходили. Но когда наступил год переписи населения, в чьей-то руководящей голове родилась мысль, а не послать ли в Медвежонок вместе с переписчиком еще и гуманитарную помощь. Идея эта обкатывалась несколько месяцев, были изысканы силы, способные войти в долевое участие по безвозмездной поддержке жителей заброшенной деревни. И, наконец, к октябрю совместными стараниями администрации района, ГО и ЧС, почтового ведомства и нескольких богатых предпринимателей из любителей рыбной ловли была снаряжена экспедиция, которая утром, дня переписи, с теплыми вещами и продуктами для бесплатной, однако под роспись, раздачи выехала из районного центра в дальнее село Медвежонок. За перевозку отвечал бывалый водитель Слава Лесин, за имущество – известный в районе снабженец Виктор Зиновьевич Кошелев, за перепись – библиотекарь Зоя Фоменко.
Экспедиция, двигаясь вверх по берегу главной реки района, до слияния с ее левым притоком, имеющим железный отзвук в названии, а затем вдоль него, миновала в пути несколько сел, и через час с небольшим достигла конечной точки маршрута. Слава подогнал машину к кучке людей, собравшихся у загруженного до предела джипа с открытым кузовом. Причем проделал это с такой лихостью, что члены экспедиции успели захватить кусок спора с пышным букетом ругательств, которым осыпали друг друга два нахохлившихся мужика, третий – блаженного вида – с раскинутыми руками ходил вокруг них, должно быть в примирительном танце, четвертый – сидел на корточках в отдалении, с интересом наблюдая за происходящим.
Слава остановил машину. Зоя легко выпорхнула наружу. Следом за ней долго и тяжело выбирался грузный Зиновьич, но как только выбрался, сразу же взял инициативу на себя. Он подошел к одному из ругающихся, прилично и добротно одетому человеку, державшему на лице нагловато-презрительную мину, и, протянув ему руку, поздоровался. Для Зиновьича не имело значения, знаком он с собеседником или нет. В святом убеждении, что его-то в районе знает каждый, он здоровался со случайными встречными, как со своими приятелями. Увидев, что его приветствие с удовольствием принято, Зиновьич передал руку второму спорящему, по виду бомжеватому бродяге, обряженному в очевидно скинутые кем-то обноски.
- Ну, что тут у вас? – густоватым баском прогудел Зиновьич, не давая спорящим опомниться.
- Да, так…, - буркнул приличный, оскорбленный тем, что по чести его уравняли с бродягой.
Бомжеватому, наоборот, польстило внимание, как он полагал, начальства, и он с готовностью принялся излагать свою обиду.
- Он меня нанял, из города сюда вывез. Я все лето у него рыбу коптил, а теперь он сматывается, а меня тут бросает. Я говорю, где взял, туда и доставь.
- Куда я тебя возьму? Машина переполнена! На попутках доедешь. Какая тебе разница, где бомжевать? – вновь вскипел хозяин джипа.
- Это я в городе бомж, а здесь наемный рабочий! Имею права. Обязан ты меня на место доставить! – крикливо настаивал бродяга.
- Плевать я хотел на твои права. Я расчет тебе выдал, там и на дорогу хватит, - пренебрежительно цедил хозяин.
- Не подскажете, где здесь дом Георгия Охотникова? – вклинился в их перепалку Зиновьич.
- А вы, собственно, кто такой? – в раздражении бросил ему наниматель.
Зиновьич пораженно округлил глаза. Он не предполагал, что кто-то из хозяйствующих или промышляющих в районе лиц может его не знать. Но тут же дал себе отчет, что мужик из города, куда известность Кошелева еще не дошла.
- Мы сюда с переписью и гуманитарной помощью, дружелюбно объяснил Зиновьич.
- Видал, я уехать еще не успел, а к тебе уже помощь валит, - усмешливо бросил бродяге бывший хозяин.
- И мне дадут? – оживился тот.
При слове «помощь» странная фигура, кружившая вокруг спорящих, замерев, встала. Наблюдавший поднялся с корточек и подошел к приезжим. Оставленный без внимания частник сел в джип и укатил. Его отъезд отметили безразлично ленивыми взглядами, в том числе и тот, кто только что запальчиво кричал, что его бросают. Одна лишь переписчица Зоя встрепенулась:
- Мы же его не переписали!
- Незачем его переписывать, - сказал тот, кто перед тем сидел на корточках. – Он не нашей фамилии.
- А какие у вас фамилии? – спросила Зоя, глядя в ясные, как небо, глаза на бородатом лице.
Бородатый, видно, прочел табличку, прицепленную к Зоиной куртке и извещавшую о том, кто она такая, потому как с готовностью объяснил:
- А такие, что от занятий идут. Я, например, Крестьянинов, значит, трудящийся на земле. Есть Охотниковы, Рыбаковы… Этот, что убежал, Тутыриным кличется. Поди, угадай, отчего такая фамилия.
- Вы, что же, сами себя фамилиями наградили? – подивилась Зоя, наслышанная о своеобразии этой деревни.
- Зачем, они все фамильные, то есть дедовские. Как наши старики по деревне разделялись, так и в книгах себя записали. Теперь уж не переменить. А прежде-то у их отцов-дедов были другие прозвания. По приезде наши старики их отринули, как не подходящие для нового места.
Зоя видела перед собою глаза, словно светом пронизанные правдой, и не знала, верить или не верить. Видавший виды Зиновьич и тот усомнился:
- Баламут ты, брат Крестьянинов, как тебя по имени-отчеству?
- Федор Михайлович.
- Мы к тебе, Федор Михайлович, по серьезному государственному делу пожаловали, а ты нам сказки рассказываешь. Вписывай себя под какой хочешь фамилией, паспорта с тебя не спросят, только сам себе не соври, а то ты ж в дураках останешься.
- Вы всех переписывать будете? – кивнул Федор на блаженного и бродягу.
- Всех, - подтвердила Зоя.
- Ну, тогда пойдемте в избу. Холодно стоять на ветру. А к Гоше Охотникову я после вас отведу. Он с утра вверх по реке уплыл, еще не вернулся.
И в самом деле, день стоял неприютный, колючий, со снежными отметинами рано зазимовавшей осени. У Зои, еще ничего не писавшей, застыли руки. Она пошла вместе с бородачом и его компанией. Зиновьич, не любивший ходить пешком, тем более в гору, забрался в кабину к Славе, наказав ему ехать следом.
Весь путь по проулку, вдоль нескончаемо тянувшегося огорода с кучами ботвы и пасшимся на них коровьим семейством блаженный держался возле Зои, то, забегая вперед и заглядывая ей в глаза, то, идя рядом. Он до того был захвачен происходящим, что душа, казалось, у него замерла. Он ступал, словно на цыпочках и не сводил с Зои глаз, чем настораживал ее и пугал. С другого боку девушки пристроился бродяга, откровенничая с ней по дороге.
- Это хорошо, что меня тут запишут, - говорил он. – Мне нигде места нету, а здесь есть. Но бомжу в деревне не выжить – с трудов или голодухи загнешься. Нашему брату один выход – в город податься. Пусть нас там не любят, но цивилизация нам тоже родная мама.
Перед глазами Зои мелькал гороховый бушлат и стоптанные ботинки бородача. «Я, как господь бог, в окружении блаженных и нищих», - совсем невесело подумала она и, когда они, наконец, дошли до дома бородача, подождала Зиновьича, как свою охрану.
Изба бородача гнездилась над самым обрывом. Из окна залы казалось, что она висит над водой, и река течет под нее. От взгляда вниз захватывало дух.
Несмотря на то, что в доме невидно было хозяйки, на подоконниках стояли цветы, крашеные полы были застланы половиками, старомодная мебель хранила черты давно ушедшего быта.
Бородач повесил в прихожей на крюк гороховый бушлат, оставшись дома в полосатой морской тельняшке, внес в залу табуретку и сел сбоку стола, где с бумагами устроилась переписчица. Зиновьич опустился на стул, который сам же приставил к теплому боку печки. Блаженный и бродяга не осмелились войти в парадную комнату и заглядывали в нее через раскрытую дверь из кухни.
- Я действительно Крестьянинов Федор Михайлович, - подтвердил бородач сказанное прежде. – Мне пятьдесят три года. Родился я тут, в этой избе. Отец едва успел за фельдшерицею сбегать. Женат я или холост? Не знаю, как и сказать. Вроде женат, не разводился, жену супругой считаю, а одним домом мы не живем. Я на Морфлоте служил, оттуда жену вывез, у родителей жили. Когда деревню переселяли, я с женой и детьми по переселению съехал, а отец с матерью на корню остались. Дети выросли, родители померли, я на корень вернулся – жена со мной не поехала, каменную хоромину пожалела. Он у нас об три комнаты. И место поживей здешнего, к райцентру ближе. Стой поры так и живем – я себе, она себе, дети себе. Навещаем друг друга, то есть я – жену, она – меня, а дети уж нас обоих. Вот и суди, милая, семейный я или нет? – вприщур глянул на переписчицу Федор.
- Хозяйство все-таки вы поврозь ведете, - задумалась Зоя.
- Так мы делимся. Друг другу гостинцы возим, подарки, жалеем один другого.
- А вместе не сходитесь.
- Есть имущество, а есть родина – для кого что важней, - со значением произнес бородач.
- Зря ты Федор праведника из себя изображаешь, - отозвался от печи Зиновьич. – Может не в имуществе дело? Я, например, всю жизнь при имуществе, горло за него перегрызу, а родина для меня не пустой звук, и с иными чувствами, особенно по душевной части, тоже не в противоречии. Видно, не сумел ты убедить свою половину, слов таких не нашел или сердечности между вами не достало, вот и не пошла она за тобой.
- Ишь ты, как угадал! – крякнул Федор, живо оборачиваясь к снабженцу. – Только и было с ней спору, что о добре. Ничего другого не произносилось. Тут уж я упустил, ну и само на язык не пришло. Может, не было в том надобности? Да нет, жалею об ней и принял бы, кабы пришла. Но она не пришла, как, к примеру, Гошина жена.
Федор перевел взгляд на Зою, полагаясь на ее женское понимание, и продолжил:
- Гошиной жене тоже не понравилась наша глухомань. В первый раз Гоша ее с попутки снял. На мотоцикле догнал и назад привез. Во второй раз из райцентра уже воротил. А в третий раз, когда сбегла, осерчал и больше за ней не поехал. Через месяц сама объявилась и говорит: «И здесь не хочу, и без тебя не могу». На том успокоилась, детишек рожает. А у меня с моею свидания есть, а притяжения нету. По молодости бы не утерпели, вместе б сбежались.
- Сам бы к ней переехал, - посоветовал Зиновьич, перетаскивая стул от печки к столу и раскладывая свои бумаги напротив Зоиных.
- Не могу. Родовой корень сыновьям сберегаю. Кто-то из них, а, может, и оба сюда возвратятся. Специальности у них к нашим местам подходящие. Один по лесному, другой по рыбному делу. На Сахалине оба. Пусть погуляют, рано иль поздно родина все равно перетянет. Гоша Охотников тоже с мальства из деревни ушел, о нем и помнить забыли, а он еще каким молодцом возвратился. И я к чужому углу не прилепился.
- У тебя по любому делу Гоша да Гоша… Он что, у вас главный тут? – заметил снабженец.
- Авторитетный, - выделил голосом Федор. – Что рыбаки, что наши деревенские, что власти разные – к нему с уважением. Вы ведь тоже Гошу спросили.
- Запишу в разведенные, - сделала вывод Зоя и перешла к следующему пункту анкеты, спросив, работает ли он?
- Не, безработный. Раньше в совхозе механизатором был, потом пчеловодом, а теперь крестьянствую у себя на дворе – и все дела. Нет у нас тут никакой работы, а надобно бы. Пенсию мне еще семь лет ждать.
- Доходы с чего имеете? – спрашивала Зоя.
- С огорода, со скотины, с того, что природа даст – грибы, ягоды. Покуда малым держимся, о большем мечтаем. Сами себя содержим, ни на кого не надеемся.
- Один живете?
- Жилец у меня, вон, Эдя Подкидыш, - обернулся Федор к двери и позвал: - Иди, Эдя. Тебя писать будут.
Счастливый от обращенного на него внимания, блаженный вошел в залу, сел на освобожденную Федором табуретку и с детским ожиданием чуда воззрился на переписчицу.
- Как вас зовут? – неуверенно спросила Зоя. Блаженный сиял улыбкой и молчал.
- Эдя Подкидыш, - вместо него ответил Федор.
- Но это же кличка, - не приняла Зоя.
- Другого имени у него нет, - развел Федор руками.
- Как же быть? – затруднилась переписчица. – Есть ли у него какие-нибудь документы?
- Какие документы у подкинутого? Пять лет назад он то ли из лесу вышел, то ли его у деревни высадили. Подбросили, в общем.
- Он что-нибудь о себе говорит?
- Не, у него только чувства, а речи нету. Лопочет только э-дя, да э-дя. Испугали, должно быть. Вы не смущайтесь, так и пишите – Подкидыш Эдуард, фамилия и отчество неизвестны. Все остальное тоже приблизительно.
- Он ваш иждивенец? – пытала Зоя.
- Нет, он свое оправдывает. На работу очень способный, что говоришь ему, понимает. Чувствует, что справедливо и несправедливо. Он немая правда у нас.
- По здоровью ему положена пенсия, - вставил Зиновьич.
- Кто ж будет ей заниматься? Его ж возить надо, устанавливать личность. Так, мыкаем вместе. Рыбаки его балуют, гостинцы возят, кое-что из одежки. Он непьющий, ни спиртного, ни пива в рот не берет.
Блаженный глядел на Федора и согласно кивал.
- Ну, все, Эдя, иди. Разговор с тобою окончен, - сказал ему Федор.
На освободившуюся табуретку сел бродяга.
- Пиши, девушка, Никола Маятник, - назвал он себя.
- Снова кличка? – вспыхнула Зоя, заподозрив, что ее разыгрывают.
- По-другому меня теперь не зовут, - доложил он.
- Но ведь вы помните свое настоящее имя? – как можно мягче спросила Зоя, стараясь не ранить самолюбия человека, еще не забывшего о своих правах.
- Это и есть мое настоящее имя. С прежним мы разошлись. А звали меня Николай Прокопьевич Бережнов.
- Хорошо звали, - похвалила, записывая, Зоя. – А то Никола Маятник, прямо как святой.
- Это Федя у нас святой, - польщенно засмеялся бродяга. – А я бездомный, опущенный жизнью маргинал.
- Мудрено, - произнес Зиновьич. – На самом деле, куда все проще. Бережнов – значит, должен беречь. Ты что-нибудь уберег? По анкете все у тебя пусто. Идешь поперек назначения – вот и маешься. Я тебе гуманитарную помощь выдам, так ты ее не растеряй, не профукай и не пропей. Хоть этим фамилию оправдай.
Зиновьич повел переписанных к машине и, забравшись в кузов японского грузовичка, как Дед Мороз подавал в протянутые руки пакеты.
- Федор, подходи первый, - хозяйственно распорядился он. – Вот тебе продовольствие, - снабженец спустил через борт тяжелую сумку. – Тут пять бутылок растительного масла, пять килограммов сахара, столько ж крупы и две пачки чая. – Передал еще пакет. – Вот тебе мука – пятнадцать кило, пеки на здоровье.
Зиновьич извлек на свет легкий по виду сверток.
- Гигиена, - сообщил он. – Стиральные порошки, мыло, зубная паста и щетка – стирайте, мойтесь, покуда этого добра хватит.
У ног Федора насобирались полученные от снабженца пакеты, и он не знал, уходить ли с ними или еще ждать. Согнутая над чем-то в кузове фигура Зиновьича обнадеживала.
- На, Федя, тебе куртку, - разгибаясь, сказал снабженец. – Примеряй, хотя из чего выбирать – все размеры одинаковы.
За теплой спецовочной курткой последовали цигейковая шапка и жесткие, как колода, валенки. Федор все по очереди примеривал на себя. Зиновьич одобрительно посматривал сверху и удовлетворенно похваливал:
- Это впору и это как раз. Валенки не тесны? По бокам давят? Ну, это разносишь. Зато они вон, какие плотные, на несколько зим хватит. Рад, что все подошло – мужик ты хороший. Ну, иди, ставь вот сюда закорючку. Тут в графе расписано, что ты получить должен, можешь проверить, все ли выдано.
Эдя застеснялся приблизиться к машине, и его подтолкнули. От волнения у него падали из рук свертки. Стоящий рядом бродяга подхватывал их и стаскивал в кучу. Натянув на себя шапку и куртку, Эдя не захотел с ними расстаться и в новом обряде заходил плясом вокруг пакетов. Возвратившийся от дома Федор покосился на него, но не стал ему выговаривать, позволив выразить свою радость.
Выдав помощь бродяге, Зиновьич предложил, когда поедут обратно, вместе с поклажей подкинуть его до райцентра, а дальше в город пусть добирается сам. Но Маятник не выказал радости.
- На что мне теперь город? – рассудил он. – С имуществом я и тут перебьюсь. Вот, хоть у Феди. Примешь, Федя, меня вместе с паем?
- Пустых изб хватает, - уклонился Федор от прямого ответа.
- Мне в одиночку не вытянуть. Сам знаешь, не крестьянская у меня жила, - пожаловался бродяга. Он стоял с гроздью пакетов, с валенками под мышкой, с толку сбитый и беззащитный, как еж, потерявший иголки. – Возьми меня, - молил он Федора, - ну, хотя бы до тех пор, пока пай ни кончится, потом я на попутке уеду. Хочешь, в работники бери, в кабалу, но тогда уж до лета.
Федор раздумывал, с крестьянской расчетливостью глядя на бродягу ясными своими глазами.
- Чтобы Эдю не обижать, от работы не уклоняться и права не качать, - осторожно проговорил он, не до конца уверенный, что правильно поступает.
Сотворивши благое дело, Зиновьич забрался греться в кабину к Славе, а Зоя и Федор, вызвавшийся сопровождать переписчицу по деревне, берегом отправились дальше. Два следующих дома на зиму опустели. Зоя бросила взгляд на заколоченные окошки, признаваясь себе, что и ей не хотелось бы зимовать тут. Ежась от непрошенных мыслей, колючего ветра и ощущения заброшенности, она подошла к краю обрыва, глянула вниз и невольно вскрикнула:
- Красота-то какая!
- Да, красота, - подтвердил следом за нею Федор. Он тоже смотрел на реку, на лесной заречный разлив, мохнатые сопки, мрачноватые в непогожий день дали, и лицо его выражало лилейное и нежно-бережное любование.
- Разве можно такую красу на что-то сменять? – сказал он.
- Но зачем она так далеко от людей? – пожалела Зоя, думая о том, что раскрывшуюся перед нею картину не увидишь с трассы и с реки не увидишь. Она возникает как откровение только с этого утеса. И эта деревня, прилепившаяся к утесу, и глаза Федора тоже кажутся откровением.
- За красотою не грех и на край света забраться, - отозвался местный житель на замечание приезжей девушки. – Есть такие, что издали едут с нашего утеса взглянуть. Иные так наглядятся, что уезжать не желают. Душа, говорят, заворожилась. А у нас она с детства завороженная.
Они двинулись дальше по крайнему ряду. Федор указал на дом с глухим забором и высокой калиткой.
- Здесь тоже Крестьяниновы живут.
- Ваши родственники?
- Однофамильцы, - сухо обронил Федор. – Стучитесь к ним, а то ихняя собака загрызть может.
К однофамильцам Федор не пошел, дождался объезжавшую проулками машину и сел пережидать к Славе в кабину. Для поддержки Зоя взяла Зиновьича. На него даже собака не взлайнула, признала за своего.
Крестьяниновы Пелагея Васильевна и Николай Сергеевич голубизной глаз походили на Федора. Только у каждого из них была своя синева. У Николая Сергеевича непроницаемая, не пускающая в себя, у Пелагеи Васильевны холодная и блескучая, как льдинка. При взгляде на хозяев Зиновьич замкнулся, не высказываясь и не балагуря, понимая, должно быть, что благосостояние этого дома зиждется на очень серьезной основе, что складывалось оно по крупице, рассчитывалось дотошно и замысливалось надолго, поэтому шутка тут не почитаема и не уместна.
Хоромы, двор и постройки этих Крестьяниновых были ухожены, прочны и добротны. Мебель в зале представляла собой смесь эпох, очевидно, покупалась на скопленную копеечку в разные периоды жизни. И все в ведении хозяйства и дома говорило о том, что добро, натужно нажитое супругами за многие годы трудов, не проживается ими в преклонные годы, а продолжает приобретаться и накапливаться дальше. Веник в сенцах и то стоял помелом вверх, чтобы деньги водились.
Супруги Крестьяниновы с пониманием отнеслись к переписи и как должное приняли помощь. Пелагея Васильевна, примеряя, долго выбирала себе куртку и валенки, а Николай Сергеевич придирчиво сверился по реестру, все ли им выдали, и потом уж поставил подпись.
Между тем, у приехавшего из района грузовичка начал собираться народ, прослышавший о бесплатной раздаче вещей и продуктов. Каждый из жителей Медвежонка зазывал к себе. Федор не уставал уверять, что завезет гостей в каждый двор, ни одного жилого дома не пропустит.
Перепись побывала у Рыбаковых, Охотниковых, еще одних Крестьяниновых. Попадались иные фамилии, должно быть более поздних переселенцев.
Деревня одним рядом стояла лицом к реке, другим – лицом к трассе. У трассы жилых домов было мало. Прежде здесь располагались общественные, ныне разрушившиеся или заколоченные постройки. Федор водил районных гостей где проулками, где по ряду, с одной ему известной определенностью, время от времени спрашивая Зиновьича, хватит ли помощи, потому что есть еще люди. Снабженец заверял, что помощи хватит на всех. И, правда, в домах, где встречались дети, у Зиновьича, как у волшебника, и валеночки находились по размеру, и пакеты со сладостями и фруктами – специально для ребятишек.
Перепись обошла около двадцати домов, опросила почти пятьдесят человек. В основном это были люди престарелого возраста, пенсионеры. Были и помоложе – от сорока и до шестидесяти лет. Среднего возраста и молодежи не попалось вовсе. Редкие детишки – дошкольники, главным образом, внуки, скинутые родителями старикам на доращивание.
Когда экспедиция зигзагами просекла всю деревню и для посещения остались всего лищь два дома, стоявших в первом ряду над обрывом, открылась и хитрость Федора, специально кружившего в обход этих двух домов, чтобы придержать их напоследок. И если до этого Федор не заходил почти ни в одну избу односельчан, отсиживаясь в кабине у Славы, с которым задушевно сдружился, то в эти два дома он повел экспедицию сам.
На крыльце первого из них, встречая входящих во двор, стоял высокий, седой мужчина с крупными, выразительными чертами лица, одетый в толстый свитер и овчинную безрукавку, повернутую мехом вовнутрь.
- Здравствуйте, Евгений Антоныч, с особенной теплотой приветствовал его Федор. – Перепись к вам привел, - Федор указал на Зою, - и гуманитарную помощь, - кивнул на Зиновьича.
- А я смотрю, машина по деревне петляет. Кого, думаю, ищет? – приветственно улыбнулся хозяин и пригласил всех в избу.
В беленой, почти без мебели, горенке, с коротенькими, только по верху окна, шторками, с повернутыми к стене полотнами и установленной на мольберте начатою картиной Евгений Антонович познакомился с каждым из гостей, представил себя и жену. Она – Мария Константиновна Маслюкова – учительница, сейчас на пенсии, преданно сопутствующая мужу в его творческих исканиях и разделяющая с ним тяготы деревенского быта. Он, художник из города Евгений Антонович Маслюков, задавшийся целью отобразить в живописи прелести здешней природы и жизни.
- Зоинька, - обратился он к девушке, - пока вы будете нас с Марией Константиновной переписывать, позвольте набросать в блокнот ваши черты. Жутко стосковался по молодым лицам. Иногда начинает казаться, что ваш возраст вовсе исчез из жизни. Это очень опасные мысли для стариков. Они закрадывают подозрение об угасании человеческого рода и конца света.
- А вам не скучно здесь зимовать? – в свою очередь поинтересовалась Зоя.
- Раньше, как похолодает, я уезжал, но со временем почувствовал, что в городе мне отчаянно не хватает здешней зимы с ее величием и тоскою. Я уже третий год в Медвежонке зимую. Нет, мне тут не скучно. Я в обществе моих раздумий, прожитых лет, исканий, надежд. Со мной моя верная жена, а передо мной любимый пейзаж. Рядом живут любопытные мне люди. Я доволен, я счастлив, я богат мыслями и впечатлениями. И потом, след на снежной целине держится дольше, чем на городском тротуаре, где его можно совсем не заметить.
Говоря это, художник быстро водил карандашом в блокноте и, когда перепись была окончена, эскиза девушке не показал, сказав, что если ей доведется быть еще в Медвежонке, он ее познакомит с тем, что из рисунка вышло. Зоя улыбнулась, не веря, что судьба еще раз забросит ее в глухое село. Зато Евгений Антонович позволил ей посмотреть пейзажи, писанные им с вершины утеса, изображения самого утеса с деревнею наверху. Среди картин Зоя увидела незаконченный портрет Федора.
- Что ж ты позировать не приходишь? – попенял ему художник.
- С утра некогда, а с обеда темно, - отговорился тот.
Однако глаза Федора художник успел выписать полностью. Они синели, как озерки, с прозрачной и чистой водою. Зоя загляделась на них. Заметив это, художник спросил:
- Зоинька, ты обратила внимание, что у здешних коренных жителей и особенно потомственных глаза разных оттенков голубизны? Я иногда представляю, что это осколки той синевы, что в ясный день висит над обрывом. Если сложить их в мозаику, получится очень пронзительное сочетание. Я как художник служу этой синеве.
Гуманитарную помощь супруги Маслюковы постеснялись принять, но Зиновьич их быстро переубедил словами:
- Вы тоже в этой деревне живете, значит, причастны ко всему, что здесь происходит. И автолавка нерегулярно сюда приезжает.
Мария Константиновна отвела Зою в сторонку и тихо ее поблагодарила.
- За что? – удивилась девушка.
- За то, что вы такая молоденькая приехали к нам переписывать. Не верьте, что ему тут не скучно. Евгению Антоновичу очень не хватает молодой, любопытной публики, которая задает вопросы и выслушивает ответы. Будете еще в Медвежонке, обязательно к нам заходите. Если мы отсюда уедем, будем вам рады в нашей городской квартире.
Экспедиция, торопясь закончить обход деревни, отказалась от предложенного Марией Константиновной чая и, простившись с художником и его женою, в сопровождении Федора направилась к избе промысловика.
Под порывами ветра бренькал, раскачиваясь на кронштейне, электрический фонарь, повешенный высоко на углу дома.
- Гошин маяк, - сказал Федор, заметив интерес к нему спутников. – Оксана включает, когда муж задерживается в тайге или на реке.
Промысловика еще не было дома. Его жена Оксана крошила для квашения капусту, резво водя кочаном по ножам шинковки. Малые дети следили за ее движениями: один из кроватки, другой из манежа.
При виде гостей Оксана оставила работу, увела пришедших в залу, села рядышком с переписчицей и, пока та раскладывала бумаги, забросала ее вопросами о новостях в районе, о своих родственниках и знакомых. Несмотря на начинавшую приобретаться степенность, от девических лет у нее сохранилась живость, бойкая говорливость и веселое озорство.
- Я из Серегиных. Знаете в райцентре таких? – спешила высказаться она, взглядывая то на Зою, то на Зиновьича. Зоя Серегиных не знала, Зиновьич, как водится, знал. Оксану это обрадовало, и она с оживлением продолжала: - Я приемщицей в госпромхозе работала. Там с Гошей познакомилась, с Георгием Ивановичем Охотниковым, - поправилась она, видя, что Зоя собирается писать. – Он меня в Медвежонок привез. Ради любви на что ни пойдешь, - вздохнула молодая женщина и поинтересовалась: - Вы о Гоше начнете или обо мне?
- Могу с вас начать, - сказала Зоя.
Оксана приосанилась.
- Пишите, Охотникова Оксана Николаевна. Мне 24 года, родилась в райцентре, образование среднее, замужем, двое детей, домохозяйка.
О муже Оксана сообщила, что ему 32 года, что он работает в госпромхозе охотником, что, кроме шкурок и мяса дичи, сдает еще рыбу, грибы, ягоды, орехи. Получает за это когда деньгами, когда продуктами. На то и живут. Еще, как и у всех деревенских, у них есть огород и хозяйство. Если б не глушь и неспокойная у мужа работа, жить можно было бы хорошо. К деревне она уже привыкает, а к Гошиным пропаданиям в тайге никак не привыкнет. Очень нервничает, когда он долго не возвращается.
- Ой, у меня лапша с дичью на плите преет, хотите? Целый день по деревне ходите – ничего горячего в рот не брали, - посочувствовала она и, сколько приезжие не отговаривались, настояла, чтобы они у нее отобедали.
Зиновьич выдал Оксане, а Федор стаскал в дом, гуманитарную помощь в расчете на четверых человек, с включением фруктов и сладостей на детей. А в знак глубокой симпатии к молодой и бедовой женщине преподнес ей не серые, как всем, валенки, а белые элегантные чесанки, чтобы она в них мужа на откосе встречала.
Гоша вернулся с реки, когда гости обедали. Он держал на кукане три больших тайменя. Оксана в живом порыве бросилась к мужу и замерла перед ним, застеснявшись объятий при чужих людях. Охотник понимающе ей улыбнулся и повел на сидящих за столом синим, как небесный простор, глазом.
29 октября 2003 года.
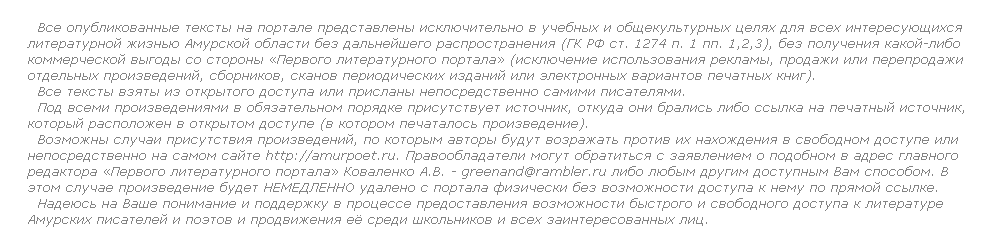
|